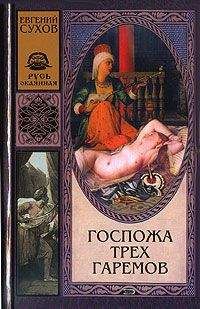Виднейший ногайский мурза развлекал себя соколиной охотой. Он наблюдал, как сокол взмыл вверх и, едва качая крыльями, совершил круг, высматривая дичь. А потом, сложив крылья, пернатый хищник рухнул с высоты в бездну. И когда до земли оставался только миг, чтобы разбиться о каменную твердь, он расправил крылья и вонзил когти в серую шею рябчика.
Юсуф остался доволен. Любимый сокол порадовал его сполна. Эту птицу он назвал ханом Иваном.
«Вот так приручить бы и настоящего хана Ивана, чтобы сидел он у меня на руке и по малейшему движению пальца кидался на врагов».
— О, могущественнейший из смертных, — оторвал его от мыслей государственной важности вкрадчивый голос эмира Булата, — казанский хан повелел поклониться тебе до земли и передать вот это послание.
Эмир задержал поклон и передал мурзе письмо.
— Читай! — коротко распорядился Юсуф.
— «…Урусский государь слаб, он ведет войну с Ливонией и давно забыл о своих восточных границах. Настало время, чтобы нам объединиться и дойти до самой Москвы! И пускай урусы платят нам дань, как это было при славном Улу-Мухаммеде!»
Юсуф слушал внимательно. Письмо выдержано в уважительных тонах, и если бы не знать, что оно от человека, который убил его зятя, то можно было бы подумать, что послание написано другом.
— Значит, ты говоришь, что Сафа сделал Сююн-Бике старшей женой? — размяк малость мурза.
— Да, великий. Он обожает твою дочь.
Никогда и никого Юсуф не любил так нежно, как свою младшую, Сююн-Бике.
— Хорошо… письмо в ответ я писать не стану. Передай ему на словах, что вижу в нем брата. Все!
— А как же помощь, могущественнейший из смертных? — осмелился спросить Булат.
— Помощь? Аллах поможет!
В Москву мурза послал гонцов с заверениями в вечной дружбе и в готовности оказать разумную помощь против самозваного казанского хана.
— Хитер Юсуф, ой как хитер, — рассуждал Сафа-Гирей. — Пусть будет так! Лучше худой мир, чем добрая ссора!
В это же время в Казань из Турции прибыли послы. Сулейман Законодатель предлагал свою помощь в борьбе с неверными. «Но Казань должна быть включена в состав Османской империи!» — потребовал он.
— Лучше далекая Турция, чем близкая Москва, — решил Сафа-Гирей и принял турецких послов не как господин, а как подданный. — Видно, так угодно Аллаху, чтобы Казань стала улусом Турции.
Турецкий посол, бывший янычар, а теперь доверенное лицо султана, согласно закивал головой:
— Разве московскому царю тягаться в могуществе с самим Сулейманом Кануни?!
А в пятницу, во время хутбы,[17] муллы поминали в своих проповедях нового господина Казанского ханства.
Месяцем позже из Османской империи прибыл большой отряд янычар и под победные звуки фанфар вошел через Ханские ворота в город. Далекие волжские земли были присоединены к владениям турецкого султана.
Сулейман Великолепный отписал в Москву сердитое письмо самодержцу Ивану Четвертому Васильевичу, в котором требовал оставить земли татарские. «Ибо, — гласило послание, — Казань есть улус Османской империи, и если ты надумаешь на него войной пойти, станешь и нашим врагом!»
Князь Овчина еще раз перечитал письмецо и, посмотрев на дьяка, правившего гусиное перо, твердым голосом произнес:
— «Сулейману Великолепному, брату моему…» — Подумав, Иван Федорович сказал: — Нет, брата вычеркни…
Дьяк макнул остро отточенное гусиное перо в чернильницу и густо замазал слово «брат».
— «…Никогда Казань не была улусом турецким, — продолжал Овчина, — и не будет им и впредь! А была всегда Казань улусом Русского государства. Тому и быть! Ханы казанские у великого князя и самодержца всея Руси всегда соизволения спрашивали, прежде чем на царствие сесть, а потому не думай о казанских землях и помышлять…» Передай это послу турецкому… Видеть не хочу его рожу! И пускай едет в свою Османию, а то ненароком и передумать могу. Давно у нас палачи без работы стынут.
Думный дьяк вручил послание турецкому послу. А тот, спрятав грамоту за пазуху, не знал, что увозит из Москвы незавидную судьбу.
Сафа-Гирей пожелал увидеть Сююн-Бике только через месяц после смерти Джан-Али. Первейшая жена вошла в покои хана в дорогих шелках, украшенных золотом и жемчугом.
— Садись рядом, — ласково попросил хан.
Женщина покорно опустилась на край широкого ложа. Она не смела поднять глаза на своего повелителя, и длинные ресницы закрывали половину лица.
— Любила ли ты Джан-Али? — попытался вызвать Сафа-Гирей первейшую жену на откровенный разговор. — Этот вопрос важен для меня как для мужчины… Лишь только потом я твой господин.
Сююн-Бике посмотрела на хана: глаза слегка раскосые, волосы густые и черные, только у левого виска осторожно вкралась небольшая прядь седых волос. Сююн-Бике вдруг почувствовала в себе что-то новое, ей захотелось коснуться этой белой отметины. Она даже подняла руку, но вовремя остановилась. «Как он красив! Счастливы женщины, которых он любит… Хан меня сделал старшей женой, а я еще ни разу не принадлежала ему».
Сафа-Гирей скинул с себя халат и лег поверх мягких покрывал. Широкая грудь хана была обнажена, на ней, у самого сердца, на золотой цепочке застыл огромный изумруд. Сафа поймал взгляд Сююн-Бике и понял его по-своему. Он снял с себя изящную вещицу и протянул женщине:
— Это мой подарок тебе. Так где же твой ответ?
— Я не любила Джан-Али, — просто произнесла Сююн-Бике. — Он был моим мужем только первую неделю, потом охладел к моему телу и женился еще два раза.
— Говорят, он просто боялся твоей красоты. Слишком ничтожен был Джан-Али в сравнении с тобой!
Сафа-Гирей коснулся пальцами плеча Сююн-Бике. Она потянулась к нему всем телом. Сафа гладил ее волосы, ласкал губами лицо, плечи, грудь… Женщина отвечала такой же обжигающей лаской, а потом их тела слились воедино…
До Сююн-Бике первейшей женой Сафа-Гирея была Манум — из знатного и влиятельного рода Ширии. Она гордилась тем, что вела свою родословную от Батыя: голову носила высоко и держалась высокомерно даже с сестрами — младшими женами Сафа-Гирея. Все знали, что в случае смерти нынешнего хана старший ее сын Булюк должен унаследовать казанский престол. Но теперь для мурз и эмиров Манум перестала существовать, все их внимание было перенесено на любимую жену хана. А Сююн-Бике уже распоряжалась во дворце по праву бывшей и настоящей хозяйки. Остальные жены завистливо смотрели ей вслед и зло переговаривались на женской половине:
— Она завладела сердцем нашего повелителя. Видно, Сююн-Бике поит его каким-то зельем, а иначе почему он забыл других жен?! Сафа-Гирей охладел к наложницам, не желает смотреть их танцы, а все свое время проводит в обществе Сююн-Бике.
— Она хочет родить сына и сделать его наследником казанского хана? О Аллах, покарай эту бесстыжую! — молилась Манум. — Аллах, сделай так, чтобы я увидела своего сына Булюка казанским повелителем.
Шло время. Казань укрепляла свои западные границы. Осторожнее к восточному соседу стала относиться великокняжеская Русь. А в Казань, в услужение к Сафа-Гирею, из Крыма потянулись его близкие и дальние родственники.
Казанцы теперь не без печали вспоминали Джан-Али. Он был молод, доверчив и неопытен, но из него мог бы получиться хороший хан. О нем сожалели, печалились и тайком поминали в молитвах. Сафа-Гирей приблизил к себе выходцев из Крыма, которые оттеснили здешних эмиров и мурз. Даже казанские карачи не пользовались таким влиянием, какое имели вновь прибывшие из Крыма худородные огланы.
Крымчане держались особняком, сторонились казанских карачей и недальновидно пренебрегали их дружбой. Казанцы платили им тем же и вели с ними скрытую борьбу, стараясь заполучить расположение Сафа-Гирея. Крымские эмиры нашептывали казанскому хану о предательстве карачей. Жалобы падали на благодатную почву. Сафа-Гирей не мог забыть пережитого позора, когда он был изгнан из Казанского ханства. И вот сейчас, утвердившись на престоле, Сафа пестовал старую обиду.
— Они предали меня один раз, предадут и второй… — сказал как-то хан и стал долго перечислять своих недругов, стараясь не пропустить никого. Среди этого множества имен были знатные эмиры, карачи, уланы,[18] муллы. Иногда он замолкал, потом вспоминал кого-нибудь еще, и список его пополнялся новыми именами. — Все они на рассвете должны умереть. И созвать весь народ, пускай он посмотрит на казнь вероотступников!
Стоявший рядом с ханом мурза Фараби попытался возразить:
— А не слишком ли велик список?
Хан посмотрел на него и объявил:
— Запишите еще в этот список и мурзу Фараби.