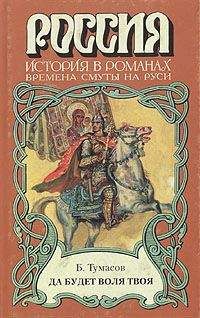— Бояре нос по ветру держат, сыщутся и такие, кто побежит к самозванцу, — заметил Иван Никитич.
Митрополит нахмурился:
— И такие будут. Да вот нам, Романовым, с этим Лжедимитрием не по пути. Даже при нужде, под силой, самозванцу служить не станем. У нас своя корысть. — Поправил рукава шелковой рясы. — А что князь Скопин?
— Скопин мудр, помалкивает. Знает, государь его не слишком жалует.
— Известно, Скопин в воинской премудрости всех Шуйских превзошел и за то у многих бояр в чести. Боятся его Шуйские.
— Истинно, владыка. Но Шуйские хоть и скудоумны, но хитры и коварны.
— Предвижу, боярин Иван, может и такое случиться, что князь Михаила и у нас на пути встанет.
— Понимаю, брат, — согласно кивнул Иван Никитич. — Помоги, Господи, нам, Романовым.
— Все в руце Божьей. К войску-то когда отъезжаете?
— Намерился на той седмице, да князь Михайло торопит. В пятницу тронемся.
— В пекло не лезь, чать, не запамятовал, как под вражью стрелу угодил? — Чуть помолчав, добавил: — А еще, брат, ежели Троекуров и Катырев замыслят к самозванцу перекинуться, отговори.
Вошла боярыня, позвала к столу, и братья оборвали беседу.
Передыхали в заброшенной крестьянской избе. Челядь протопила печь, наскоро обмела пыль со стен, сняла паутину, нитями свисавшую с потолочных балок.
Разложив на столешнице дорожную снедь, челядь удалилась. Князь Михайло Скопин молчалив. Боярин Романов напрасно пытался его разговорить. Но когда трапеза подходила к концу, князь Михайло неожиданно сказал:
— Как Москву покидал, узнал: государь велел Болотникова казнить…
— О чем печаль, князь Михайло Васильевич, одним вором меньше.
— Государь слово царское давал.
— Впервой ли Василию его рушить?
— Может, ты, боярин Иван Никитич, и прав: невелика печаль о казни холопа, но, дав слово, держи… А Болотников в душу мою запал: умен и ратник отменный. Поди, не забыл, как царские воеводы псами гончими от него бегали? И хоть Ивашка Москву потряс и нас, бояр, потревожил, а таких, как он, жалею. Такими бы Русь крепить. Умен, хоть и холоп… Встречу с ним последнюю вспоминаю…
Разговорились. Посетовали, что смута государство разорила, в деревнях безлюдье, запустение, земля не ухожена, крестьяне в бегах. Доколь? И все к одному сводилось: нетверда власть царская…
Речь на самозванца повернули. Скопин заметил:
— Князь Дмитрий Иванович сказывал о хоругвях польских и что гетманами у Лжедимитрия князь Ружинский и Лисовский, да еще привел полки литвин Ян Сапега. То, боярин, грозное предзнаменование: видать, король замыслил пытать удачи в московской земле.
— В твоих словах правда, князь: Жигмунд никак не согласится, что Москва Смоленском владеет.
— Речь Посполитая войну с нами начать может — и тогда жди боярской измены.
— Крамола боярская!
— Отсюда и неустройство государственное. — Скопин поднял палец. — Нам пора, боярин, нет времени рассиживаться, самозванец подпирает.
От Болхова на Москву две дороги: через Тулу и через Козельск. Первая особенно заманчива. Она ведет окраинными городками, где поднеси трут — и все заполыхает крестьянской войной, где помнят Ивана Исаевича Болотникова. Но поляки к иному склоняли.
— Тула и Серпухов добре укреплены, — говорил Ружинский, — да и на переправе через Оку встретят полки царя Шуйского. Коли же через Козельск на Калугу, а оттуда на Можайск, так то и есть ближняя дорога из Речи Посполитой на Москву.
Убедил гетман Лжедимитрия, и, не встречая сопротивления, воинство самозванца двинулось на Козельск. На переправе через Угру смяли стрелецкий заслон, стрельцы присягнули царю Димитрию.
Калуга встретила самозванца распахнутыми воротами, колокольным перезвоном, целовала крест Лжедимитрию. Но самозванец в городе не задержался, а, выставив в авангарде конных шляхтичей, пошел на Можайск.
Кончался май — травень-цветень.
Косматыми гривами с востока на запад и с юга на север тянулись леса. Остерегаясь стрелецких застав, стороной обходя городки и засеки, пробирались ватажники к Каргополю.
Долог путь от Москвы до Онеги, верст восемьсот: не одни лапти разбили, одежду о сучья изорвали. Ватага Тимоши шла торопко: надеялась освободить Болотникова.
На пятнадцатые сутки показались маковки ярославских церквей, стены крепостные, башни, домишки посада, Волга, дугой огибавшая город. Расположились ватажники на лесной поляне, костер развели, обсушились, и Андрейка отправился в Ярославль.
Городские ворота были открыты. Караульный стрелец, зажав меж колен бердыш, подремывал, усевшись на бревно, на парнишку внимания не обратил. На улицах колдобины, липкая грязь — лапти пудовые. Побродил Андрейка попусту, день к закату клонился — пустынно на торговой площади и в кабаке. Узнал, что в ярославском кремле под стражей содержат Марину Мнишек, жену первого самозванца, да не за тем Андрейка в город приходил.
К воротам подошел в самый раз, когда их уже закрывали. Кривой стрелецкий десятник ухватил Андрейку за ухо, крутнул больно:
— Сказывай, воренок, по чьему наущению явился?
Андрейка слезу пустил:
— Отпусти, дяденька, огнем жжет!
Но десятник пуще давит:
— Это ль огонь? Огня в пыточной изведаешь!
— Я мамку ищу!
— Врешь, воренок. Эгей, Степка! — позвал десятник рябого стрельца. — Волоки его в пыточную! Там расскажет, от какой такой мамкиной титьки оторвался.
Стрелец взял Андрейку за ворот сермяжного азяма{9}, потянул. За воеводским подворьем — клеть пыточная. Андрейке сделалось страшно, но стрелец вдруг остановился:
— Ты вот чо, парень: где-нигде укройся, а как поутру ворота откроют, убирайся да на глаза десятнику не суйся.
Многотысячное пешее и конное воинство самозванца осадило Можайск, и город не оказал сопротивления. Можайский воевода и стрелецкий голова успели сбежать, а стрельцы пошли на службу к Лжедимитрию. Рад самозванец: открылась дорога на Москву и скоро вся российская земля присягнет ему.
Паны вельможные торопят: им бы набить переметные сумы и походные рундуки московским золотом и мехами, сладко поесть и понежиться с городскими боярынями. Лжедимитрий еще Можайск не покинул, а Ружинский уже повел хоругви на Звенигород.
Матвею Веревкину стало известно, что Шуйский послал на него воевод Скопина и Романова. С другими воеводами они встали на речке Незнань, что между Подольском и Звенигородом. Но он, Матвей Веревкин, боя не примет, а обойдет полки стороной, на правом крыле.
Тревожно на душе у князя Михаилы Скопина-Шуйского. Отчего бы? Сил у него поболе, чем у самозванца, — эвон сколько воевод с ним — и место выбрал удачное, где надо полки поставил. Распорядился встретить Лжедимитрия огневым нарядом, потом в дело вступят воеводы Трубецкой, Троекуров и Катырев, а закончит все боярин Романов. Конных шляхтичей остудит дворянское ополчение Прокопия Ляпунова.
Накануне Скопин выслал разъезды и теперь ждал их возвращения. Уже и ночь на исходе, а князь Михайло все не ложится. Неожиданно ворвался Прокопий Ляпунов.
— Беда, князь-воевода, самозванец нас обошел и Звенигород взял!
Скопин-Шуйский подхватился:
— Чуяло сердце, но как дозоры не упредили? Ужели измена? Как мыслишь, Прокопий?
— Одна беда еще не беда, князь Михайло. Слух верный есть: воеводы Катырев с Трубецким и Троекуров к самозванцу намерены податься.
— Откуда прознал?
— Холоп катыревский донес.
— Не облыжно ли? Может, навет?
— По всему видать, истину сказывал. В шатре у князя Ивана на трапезу собирались, а за столом рядились.
Скопин-Шуйский прошелся взад-вперед, остановился:
— Кому о том поведал?
— Никому.
— И боярину Романову?
— Нет, князь-воевода. Покуда тебя не упредил, никому ни слова. Тем паче боярин Иван Никитич, сам ведаешь, Ивану Федоровичу Троекурову шурин, а Иван Михайлович Катырев — зять владыки Филарета.
— То так, — нахмурился Скопин. — Вот что я помыслил, Прокопий. Пока та измена еще не свершилась, надобно спешно полки в Москву отводить. Вели воинство поднимать.
Рядом с опочивальней — мыленка, баня царская. В сенях вдоль стен лавки, стол, крытый красным сукном, на нем сложенная простыня, рушник. Государь с помощью боярина разоблачился, положил на стол одежду, вступил в мыленку. Перед иконой и поклонным крестом остановился, потоптался на разбросанном по полу, мелко нарубленном можжевельнике, взобрался на полок.
Изразцовая печь дышала жаром. От нее и красных слюдяных оконцев все в мыленке казалось огненным.
Боярин Онисим из большого липового чана начерпал горячей воды в липовую бадейку-извар, подставил берестяной туес с квасом и медный таз со щелоком, принялся омывать царское тело. От душистых трав и сушеных цветов, разложенных на полках и лавках, пахло духмяно.