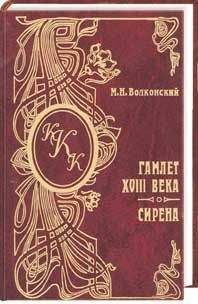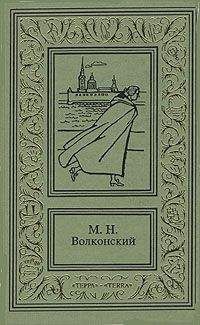– Да очень просто: ногами. Пойдем, и делу конец.
– Ты решился уйти со мной вместе?
– Да нет же! Я останусь, а ты уходи!
– Как же, Кирш? А что с тобой будет?
– Ничего не будет, потому что не должно ничего быть.
– Значит, ты придумал, как вывернуться?
– Пока еще нет, но уверен, что обстоятельства помогут.
– Почему же ты уверен так?
– Потому что наше дело правое. Иди, нечего дольше разговаривать! – и Кирш встал, взял фонарь и, подойдя к двери, отворил ее.
Твердая уверенность Кирша, с которой он вдруг начал говорить и действовать, перешла как-то сама собой и на Елчанинова; он последовал за приятелем.
Кирш, выпустив его, задвинул болт на двери, замкнул замок и запер его.
Они тихо стали подыматься по лестнице.
Когда они вышли на площадку первого этажа, наверху послышались шаги.
Кирш схватил Елчанинова за руку, втащил его в выходившую на площадку дверь кухни и потушил фонарь. Он успел сделать это вовремя, потому что наверху, на лестнице, показался уже свет и кто-то стал спускаться вниз, неторопливо и уверенно.
Как затем выяснилось, это была леди Гариссон. Держа в руках свечу в большом бронзовом подсвечнике, она спустилась с лестницы и остановилась на площадке у двери в кухню.
– Али! – сдерживая голос, позвала она, но все-таки достаточно громко, чтобы быть услышанной. – Али! Вы спите?
Кирш подошел к двери, приотворил ее и просунул голову, крепко, однако, держа дверь за ручку, на случай, если бы леди сделала попытку войти в кухню.
– Вы еще не ложились? – спросила она по-французски.
– Нет, я стерегу заключенного в подвале! – ответил Кирш визгливым голосом арапа, коверкая французский язык.
– А он там, этот заключенный?
– Где же ему и быть? Замок на двери крепок и Али не дремлет. Заключенный там, миледи!
– Проведите меня к нему!
– Я не могу сделать это. Мне не приказано впускать к нему никого.
– Я беру на себя! Вы можете меня послушаться.
– Напрасно, леди, Али знает свой долг и ни за что не нарушит данного ему приказания. Мне не велено даже отворять двери подвала и самому заглядывать туда!
– Так что вы не знаете, кто заключен там?
– Откуда я знаю, миледи?
– Да ведь он уже не первый день здесь; вчера он был освобожден, а сегодня его опять посадили. Вот видите, я знаю! Это бывший слуга маркиза де Трамвиля, и мне надо увидеть его во что бы то ни стало.
– Но все-таки я не могу отворить вам двери, потому что мне не приказано это.
– Тогда дайте мне ключ, я отворю сама!
– Али не дает никому ключа, если не будет иметь на то положительного приказания.
– Я приказываю вам!
– Это для меня не приказание!
Леди Гариссон сделала нетерпеливое движение, нагнулась и тихо шепнула:
– Он жив в сыне!
Тогда Али сделал поклон, приложил руку ко лбу, поспешно достал из кармана ключ и подал ей.
Леди Гариссон взяла и направилась было в сторону подвала, но в это время с верхней площадки лестницы раздался ясный голос:
– Что вы делаете там, леди, и зачем вам понадобилось тревожить ночью Али?
Леди вздрогнула, свеча метнулась у нее в руке, она подняла голову и ответила наверх:
– Это вы, маркиз? Мне нужно было послать Али, чтобы он узнал, приехала ли за мной моя карета, я думала, что вы заснули.
– Нет, я не заснул! – возразил маркиз. – А о карете мы сами справимся, посмотрев сверху в окно. Оставьте Али в покое и идите сюда.
– Но... – начала было леди, а затем, видимо, не найдя, что сказать, должно быть, решив не противоречить маркизу, повернулась и поднялась по лестнице.
Затем слышно было, как они оба удалились.
Кирш прислушался, потом засветил фонарь и, взглянув блестящими глазами на Елчанинова, сказал ему с облегченным вздохом:
– Теперь ты свободен, и я не отвечаю за тебя. Она взяла от меня ключ, теперь это ее дело.
– Но я все-таки ничего не понимаю! – отозвался Елчанинов. – Зачем ей понадобился ключ? Неужели она хотела видеть меня или выпустить?
– Да не тебя вовсе! Разве ты не слыхал, что она говорила, что в подвале заключен Станислав, бывший слуга маркиза?
– Да, кажется, она сказала это.
– А он ей не кто иной, как муж!
– Сегодня утром, когда я его привез к Варгину, он увидел ее и закричал...
– Я знаю это! – сказал Кирш. – Так неужели и теперь ты все еще не понимаешь, зачем она приходила за ключом?
– Очевидно, чтобы повидать его, переговорить с ним, может быть, припугнуть или убедиться, действительно ли он сидит под замком. Это ясно. Но откуда она взяла, что Станислав, с которым она встретилась сегодня еще вне этого дома, заперт опять тут в подвале?
– Она знала, что вчера ты освободил его...
– Она об этом у меня не расспрашивала, – перебил Елчанинов, – и я ей не рассказывал.
– Она узнала это от других, а сегодня видела, как я входил сюда, в этот дом, со Станиславом. Отсюда она, очевидно, заключила, что если вчера ему удалось бежать отсюда, а сегодня опять его заманили, так он посажен опять в подвал. Для нее это могло показаться правдоподобным, ну вот она и пришла выведать у меня, есть или нет внизу заключенный, и когда узнала, что есть, то потребовала ключ, не сомневаясь уже, что это Станислав.
– Но теперь она пройдет в подвал.
– И никого не найдет там. Это ее дело. Она взяла ключ, пусть она и отвечает, и выворачивается как знает; ничего, свои люди – сочтутся!
– Но как же ты отдал ей ключ?
– Она произнесла мне таинственные слова, по которым я должен был исполнить ее приказание, и отцы иезуиты не могут упрекнуть меня за это.
– Эти слова, насколько я помню, были те же самые, которые оказались написанными на листе, лежащем на твоем столе, когда мы вернулись к тебе вечером накануне твоего исчезновения. Они имеют какое-нибудь значение?
– Когда-нибудь ты узнаешь их значение, и, может быть, скоро!
– Что же, это девиз иезуитов, что ли?
– Да, это девиз, только не иезуитов. Они же пользуются им не между собой, а когда имеют дело с непосвященными в их орден, как леди Гариссон. Но только заметь: всегда, при каких бы обстоятельствах они не произнесли эти слова, они впадают в заблуждение и делают ошибку или ложный шаг, как сегодня, например, попалась леди. Слова «Он жив в сыне» не произносятся безнаказанно людьми, не понимающими их сокровенного значения. Теперь ты можешь идти; отправляйся, как я тебе сказал, завтра же к Зонненфельдту и не возвращайся в этот дом. Там, на воле, тебя тронуть не посмеют, хотя все-таки будь осторожен с едой и питьем, чтобы не подсыпали тебе чего-нибудь.
– Но как же мне теперь встречаться с леди Гариссон, если ее будут обвинять тут в том, что я высвободился отсюда благодаря ей? – спросил Елчанинов.
– Едва ли она заговорит с тобой об этом прямо. Если тебе придется увидеть ее, сделай вид, как будто ничего не было и ты ничего не знаешь – и только. А ей, вероятно, недолго и быть в Петербурге: разрыв ее с иезуитами произойдет скоро, и твоя сегодняшняя история поможет этому.
– Напротив, она, кажется, уверена, что приобретет у нас значительное влияние; Грубер при мне поздравлял ее с тем, что она на днях появится при дворе и будет представлена государю.
– Этого не будет! – сказал Кирш.
На рассвете он выпустил Елчанинова из дома.
– Мы все-таки увидимся с тобой? – спросил тот на прощанье.
– Увидимся, не беспокойся!
– А Варгину ничего не рассказывать?
– Никому ничего! Слышишь? Никому ничего! – повторил Кирш.
И они простились.
Елчанинов направился прямо к Зонненфельдту.
Кирш сказал ему, что он найдет старика, вероятно, уже бодрствующим, так как тот спит не больше трех часов в сутки и подымается всегда с восходом солнца, одинаково зимой и летом.
В самом деле, Елчанинов застал отставного коллежского асессора на ногах.
Тот нисколько не удивился его раннему приходу и на этот раз принял его не на дворе, на лавочке, а провел к себе в комнату.
Эта комната, кроме необыкновенной чистоты, ничем особенным не отличалась. Она была похожа на самое заурядное жилище бедного чиновника – и только. Однако в ней пахло чем-то особенным, не то можжевельником, не то какой-то пахучей смолой.
С первых же слов Елчанинова Зонненфельдт весь преобразился и перестал быть похожим на отставного коллежского ассесора. Его лицо, не теряя своего мягкого, доброго выражения, сделалось вдруг удивительно осмысленным; глаза изменились, просветлели и взглянули острым, проницательным взглядом, проникавшим в самую душу того, на кого смотрели. И речь у него полилась совсем иная, чем прежде: ни поговорок, ни вычурных оборотов чиновно-подьяческого слога в ней не было. Он перестал шамкать и тараторить по-стариковски. Каждая его фраза стала определенной, законченной, вдумчивой и заставлявшей думать.
Елчанинов просидел с ним час, не более, но в этот час в нем произошла перемена, какой люди добиваются иногда годами долгого опыта.