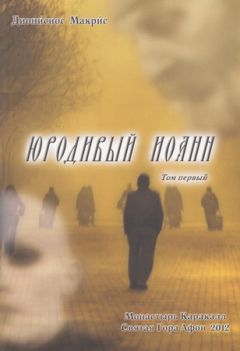На другой день после последнего приезда к нам Роберта я отправилась с отцом в кузницу Томаса Чандлера за мешком гвоздей и точилом для косы. Томас Чандлер приходился братом Уильяму Чандлеру, хозяину постоялого двора, и был одним из самых важных людей в Андовере, а в его кузнице собирались все мужчины города. Сначала отец велел мне остаться дома и смотреть за Ханной, поскольку Ричард ушел рано утром, чтобы отнести пищу в салемскую тюрьму, и на ферме оставались только Том и Эндрю. В последнее время, когда отец уходил и я оказывалась без его защиты, меня охватывал такой жуткий страх, что я теряла способность двигаться. Я грозилась броситься под колеса, если он не возьмет нас с Ханной в кузницу. В конце концов он сдался и усадил нас рядом с собой на место возницы. Ехать туда надо было по той же дороге, что и в центр города, с той только разницей, что, не доезжая кладбища, надо было резко повернуть на запад по дороге на Ньюбери. В то утро, когда мы пересекли небольшой мост через реку Шаушин и подъехали к кузнице на берегу, там стояло четыре или пять фургонов. Их владельцы приехали, чтобы починить, заточить или купить новые инструменты для приближающейся страды.
Подъезжая, мы видели, что мужчины разбились на небольшие группы и, без сомнения, делились деревенскими новостями, ожидая своей очереди. Но все разговоры смолкли, стоило отцу спрыгнуть с фургона. С минуту они смотрели на нас во все глаза, а потом разом отвернулись, как от холодного ветра, что подул от воды. Они стояли, сгорбившись от неловкости, ковыряя землю носами ботинок и поднимая столбы пыль. Отец не умел ходить не спеша и редко сбавлял скорость на пашне или в поле. Когда же он шел размашистым шагом, мне приходилось бежать что есть духу, чтобы от него не отстать. Он вытащил из фургона большую косу и направился к мужчинам с такой скоростью и размахивал руками с такой силой, что образовавшегося ветра хватило бы, чтобы наполнить небольшой парус. Мужчины забеспокоились. Сначала они решили было не трогаться с места, чтобы отцу пришлось их обойти. Но когда поднятое вверх ржавое лезвие косы оказалось у них под носом, мужчины расступились, и отец спокойно прошел через образовавшийся коридор.
Как только он вошел в кузню, мужчины снова сомкнули ряды, как соединяются ткани после глубокой раны. Они переключили внимание на нас с Ханной, бросая украдкой взгляды то на меня, то на нее, но я всякий раз смотрела на них в упор, что, полагаю, их разозлило. Через некоторое время один из них, мужчина, которого я видела всего несколько раз, когда он проезжал мимо нашего дома по Бостонскому тракту, сказал нарочито громко, чтобы нам было слышно:
— Яблочко от яблони недалеко падает.
Другой мужчина засмеялся и сказал:
— Судя по внешности старшей, лучше сразу послать за констеблем, пока она нас не сглазила.
Мои кулаки сжались и ухватили юбку с обоих боков. Все повернули голову в мою сторону, соображая, как себя вести дальше. В глазах была опаска, удивление и враждебность. Ханна спряталась за козлы и затихла, словно притаившийся зверек.
Потом еще один мужчина сказал:
— Говорят, есть хороший способ проверить, ведьма женщина или нет. Надо бросить ее в реку. Если утонет — вины на ней нет. Если выплывет — значит, ведьма, и ее нужно схватить и повесить.
Мужчины старательно делали вид, что они просто стоят и беседуют, но незаметно, дюйм за дюймом, подходили все ближе к отцовскому фургону. Думаю, будь я одна, они запросто бросили бы меня в реку, и дело с концом. Но в эту минуту из кузни послышался бас:
— Так кто следующий к огоньку?
Мужчины разом повернулись, и я увидела, что в дверях стоит отец. В руках у него старая коса с заточенным и отполированным лезвием, которое угрожающе засверкало, когда он вышел на свет. Отец был на полтора фута выше самого высокого из мужчин, и на солнце его глаза стали черными, как обсидиан. От жара печи его рубашка из грубого полотна насквозь пропиталась потом, длинные волосы обвисли и лоснились, нос в пятнах копоти. Наверное, для мужчин во дворе он выглядел как друид, измазанный известкой, для солдат Римской империи, стоящих на другом берегу валлийской реки.
— Так кто следующий? — повторил отец. — Ты, что ли, Грейнджер, проживающий на Новом лугу? — Он взмахнул рукой, которой держал косу, описав в воздухе дугу. — Или ты, Хаггет, который живет у пруда Бланчарда? Или, может, ты, Фарнум с Бостонского холма?
Так, размахивая в воздухе косой, он обратился ко всем восьмерым, что стояли во дворе. Он перечислил их имена и названия ферм, давая понять, что знает, как их зовут и где их дом. В его голосе не прозвучало прямой угрозы. Таким будничным тоном сборщик налогов вызывает следующего по очереди плательщика. Но, помимо слов, было что-то еще — выражение его лица и то, как он держался, словно был весь наготове, — что вызвало ощущение опасности. Я почувствовала, как у меня стянуло затылок, и по тому, как мужчины опустили голову и поспешили к своим фургонам или в кузницу, стало ясно, что в их сердцах зародился страх.
Отец нежно, как младенца, опустил косу на солому, вскочил на козлы и натянул поводья, чтобы ехать домой. На обратном пути я украдкой бросала на него взгляды, но он ничего не сказал, будто справиться с группой бывалых фермеров, не нанеся ни одного удара и не произнеся ни единого бранного слова, было для него делом обычным. Именно происшествие на кузнице заставило меня посмотреть на отца по-иному. Он не только поднялся в негласной мужской иерархии, но и убедил меня, что я всегда найду у него защиту. Причем эта защита выражалась не в резком действенном вмешательстве, как у матери, а была более мягкой и незаметной. Только после нашего последнего посещения андоверского молитвенного дома я поняла, по крайней мере отчасти, что большинство людей испытывает по отношению к моему отцу страх, а подчас даже ужас. Ужас, который безотчетно охватывает людей, сталкивающихся с грубой силой.
В тот вечер к нам пришел преподобный Дейн и принес еду и кое-что из платья. Однако надежды, хоть самой малой, он не принес. Он сказал нам, что навещал мать в тюрьме, что она примирилась с Господом и готова принять любое решение судей. Сообщил, что из надежных источников ему стало известно, что вскоре мы, дети, должны будем предстать перед судьями в Салеме, и поэтому он умолял нас вернуться в молитвенный дом, поскольку для нас всех будет лучше, если мы покажем всем нашу веру в Господа. Отец уважительно его слушал, но, когда старик закончил говорить, встал и достал из резного буфета, стоявшего рядом со столом, материнскую Библию. Он открыл Евангелие от Матфея, и, ткнув в стих пальцем, вышел из комнаты и не возвращался до отъезда пастора. Позднее, перелистывая страницы Евангелия, я нашла отпечаток его пальца на стихе, в котором говорилось: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне». Тем не менее отец отвез нас в андоверский молитвенный дом в то последнее воскресенье нашей свободной жизни, семнадцатого июля, ибо, если и была хоть какая-то возможность склонить судей в нашу пользу, он не мог ее упустить.
Мы вряд ли произвели бы больший фурор, если бы появились голыми в центре города. Когда мы вошли в молитвенный дом, никто не стал скрывать враждебности по отношению к семье Кэрриеров. Отец, Ричард, Эндрю и Том нашли место на мужской половине без особого труда, но от женщин мы сочувствия не дождались. Они не сдвинулись ни на дюйм, так что мне пришлось стоять в проходе с выгибающейся Ханной на руках. Фиби Чандлер вздернула подбородок и посмотрела на меня с величайшим презрением, но потом увидела, что Ричард бросает на нее испепеляющие взгляды, и сосредоточила внимание на пасторе. Позднее, давая показания на салемском суде, она скажет, что от взгляда Ричарда она оглохла и ничего не слышала до конца службы. Жаль, что она вдобавок не онемела. Отец взглянул на меня только раз, и, чтобы он мной гордился, я подняла подбородок, выпрямила спину и не сводила глаз с преподобного Барнарда, который к тому времени полностью захватил кафедру, отправив отца Дейна сидеть на скамье внизу. Ничего удивительного, что его проповедь опиралась на Первое послание Петра: «Противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить…»
Ханна у меня на руках вся извертелась, хотя я пыталась удерживать ее за запястье. Сестренка стала вырываться и капризничать, и мне пришлось вытащить ее на улицу, и, так как день был жарким, мы уселись под ближайшим фургоном. Чтобы она не плакала, я позволила ей копаться в земле и не ругала, когда она складывала землю в фартук. Было видно, что она сирота, неумытая и неухоженная. Оставшись без матери, мы все стали грязные, неопрятные. Я посмотрела на грязь у себя под ногтями и, устыдившись, представила гладкие и чистые руки Маргарет.
Мы просидели под фургоном с час, когда я услышала, как отворились двери и двое мужчин направились в нашу сторону, неся на руках третьего, который по-стариковски кашлял и дышал с присвистом. Эти двое ушли со службы пораньше, чтобы дать старику подышать свежим воздухом. Они разговаривали на ходу и, прежде чем я успела вылезти, положили деда на солому в задней части фургона. Я стеснялась показываться им на глаза, и чем дольше они разговаривали, тем труднее мне было предстать перед ними, — словно ящерица, вдруг выползшая из-под камня. Я могла видеть только нижнюю часть их ног, но голоса я слышала отчетливо и надеялась, что Ханна будет вести себя смирно и нас не выдаст.