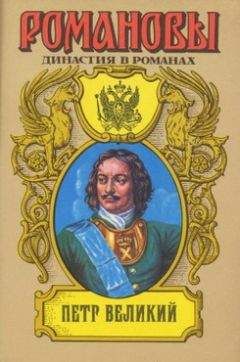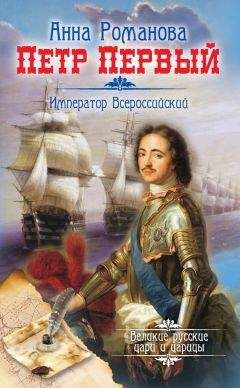— Да и не обегают толковых людей. Как послушают — и спрашивают только: чей?
— А Микрюкова уже спросили да и распоряжать пригласили!
— Дай Бог нашему теляти волка поймати! Коли Фома будет заправской, хоша — псарь… так Иванушку к себе должон взять сам царь! — порешил поп Егор сплеча, не зная, чем переспорить жену.
— Экой пророк, подумаешь! — всё-таки нашлась с ответом попадья.
Поп Егор не мог дольше терпеть. Он как человек мирный много спорить не любил и уходил от ссоры. И теперь, не продолжая, надел шляпу и пошёл за порог.
Даша спряталась в светёлке и ну… плакать. Защемило её молодое сердце новою, незнакомою до того, болью. Сдавалось ей, что боль эта — предчувствие дальнейших невзгод и напастей. А напасти эти могут совсем оттереть от их дома Ванечку и бросить её, Дашу, в когти Фомы Микрюкова.
Облегчив слезами своё сердце и рассеяв на время, казалось, уже нависшую тучу бедствий, Даша вышла на задворок и подсела к дьяконице, мотавшей нитки на завалинке. Вот слышит она на улице знакомые шаги и окрик Микрюкова:
— Прощай, Иван Алексеич! Сегодня уж светлейший разрешит меня из полку истребовать к себе на послуги…
— В какие такие, Фома Исаич, послуги?
— Может, по конюшням где что присмотреть… а не то и в волость ушлёт, либо иное что…
«Путь тебе широкой скатертью от нас», — подумала Даша, вся вспыхнув.
— Чего доброго… и с нами ещё останешься, — наивно ответил Балакирев, думая вслух: — Светлейший строго разбирает новых людей. И потребует, да воротит.
— Меня не воротит! — самодовольно отозвался Микрюков. — Коли не понравлюсь светлейшему, вотрёт в дом к самодержавнейшему. А там, сам знаешь, золотое дно!
— Н-ну, это последнее ещё будет труднее. Царское величество слуг сам выбирает теперь… — ответил неожиданно, как бы умышленно начиная перечить, подоспевший сюда поп Егор.
Сильно забилось, но теперь уже от радости, сердце у Даши.
«Батюшка Ивана Алексеевича не выдаёт хвастуну Фомке, значит, он нашу руку держит», — думала она.
В самом деле, держа дружески за руку, уже и вёл поп Егор к себе Балакирева.
Матушка избегала встречи теперь с не любимым ею Иванушкой. Он и сам о чём-то глубоко почасту задумывался. Слова соперника, так развязно рассказывавшего о благосклонности князя Меншикова, будто бы если не к себе готового определить этого проходимца, то ещё легче во двор царский, где золотое дно, — не давали теперь покоя расходившимся мыслям Иванушки.
Отец Егор, правда, поперечку сделал Фомке; дал понять, что не удастся свинье на небо взглянуть и при поддержке светлейшего. На то сам царь, чтобы к себе брать кто ему приглянется, возражал в мыслях обеспокоенный Балакирев. «Понимаю! — слышался ему внутренний голос. — Фомка для того лезет во дворец, как он мне нахально расхвастал, что там, вишь, золотое дно… Как достанешь до этого дна-то, все тебе и будет по плечу. Захочет Фомка, и его будет Даша? Так врёшь же!.. Не отдам!.. Постою за себя!..»
К концу вечера, порешив так, Ванечка после ужина ушёл от батьки к себе, теперь он ломал голову над тем, как разбить надежды врага, заручившегося, по его словам, поддержкою для своих планов.
Ранним утром роту, в которой состоял Балакирев, назначили в караул. Вступать пришлось до полудня. Развели на притины [103], и полдень наступил. От церкви Троицы, что против Гостиного двора и Сената, за длинным строением, где помещены недавно две коллегии, в ту пору на берег Большой Невы выходил провиантский магазин. Теперь это одно непрерывное здание вдоль течения реки, а при Петре I, по упразднении Ростовских зеленных рядов, на самых настилках их было шесть деревянных амбаров, стоявших поперёк от улицы к Неве. Между каждыми двумя амбарами была будка для часового. Ко всем корпусам тогда из-за нехватки людей ставили одного человека на карауле с ружьём. Стоял он и не у будки, а, что называется, на юру под открытым небом. Солнцепёк палил беднягу в зной; дождь прохватывал насквозь, коли польёт; зимой же осыпал или нестерпимо резал лицо и уши снег с Невы и с дороги. Дежурство Балакирева пришлось в знойный день. На небе — ни облачка; в воздухе — мёртвая тишь. Простоял он час. Нет души живой; жажда смертная; кровь в голову бьёт, и сам человек разварен в этом кипятке до изнеможения. Перевязь накалилась и не даёт рукой провести по коже, а особенно по пряжке — так и палит.
— Не могу больше! — решил часовой. — Не окунуться — смерть!
Живой рукой с себя суму и перевязь; кафтан, рейтузы, исподни и рубашку тоже… сложил на берегу и сам — бац в Неву.
Поплавал вдоволь да взглянул к домику царскому, а оттуда идёт государь и пальцем грозит.
Где тут одеваться — есть ли время на себя всю сбрую натягивать?! Выскочил на берег, взял сапоги, схватил суму надел перевязь по форме, шапку на голову, ружьё в руки и мастерски при проходе его величества отдёрнул на караул.
— Хоть гол — да прав! — с улыбкой довольства за находчивость милостиво молвил государь и прошёл к коллегиям.
Когда скрылся он за углом, на Ванечку страх напал: что-то будет? Оделся часовой как ни в чём не бывало и похаживает.
Опять обратно идёт государь и о чём-то сам с собой рассуждает, помахивая известною всем своею тростью-учительницей.
Дух захватило у храброго Балакирева. Он к земле как приклеился с ружьём на караул.
Пётр I между тем, выразив удовольствие от находчивости застигнутого им в неловком положении часового, раздумался: «Что это, однако, за небрежение? Часовой с поста уходит! Нельзя оставить без замечания… А как же наказывать, когда я сам, невольно увлечённый молодецкой выходкой, сказал, что он прав! Коли прав — он заберёт в голову, что так и надо!.. И какой будет порядок? Какой будет это строй? Какие это будут солдаты? Невыгодно ему покажется стоять на жаре, он в тень уйдёт, а пост — пуст! В огласку пустить? Чего доброго, не этот первый и не он будет последним. Нужно так сделать, чтобы никто не проведал такого по службе упущенья, которое я сам оставил безнаказанным. Да чтобы и помилованный мною за удаль не мог повторить своей штуки. Лицо знакомо мне показалось. Насквозь виден — сокол! И парня такого жаль… И без смеха теперь вспомнить не могу. Расцеловать готов за находчивость. Истинно русская удаль! Как поступить, однако?» — ещё раздумывал державный, уже близко подходя и умышленно замедляя богатырский, мерный шаг свой. Мгновение, и он узнал, кто это.
— Балакирев, Иван?
— Я, ваше величество!
— Ах ты плут! — и сам снова захохотал, не могши удержать в себе порыва весёлости. Ванька сам ухмыльнулся, и отлегло у него от сердца.
— Виноват, великий государь! — пробарабанил он, делая на караул. — Не вытерпел. Больно припёк велик.
— Коли сказал — прав, не поминаю старого, и ты молчок. Только… служить теперь тебе в полку нельзя. Ты — не солдат! Выбирай любую службу: определю куда захочешь.
— Великий государь, возьми меня в слуги к себе, ко двору своему. Заслужу вину эту! — брякнул прощённый, не долго думая.
— Быть так! Как сменишься, явись к Мошкову, в доме у меня; велю принять. Только смотри у меня, не шути вперёд со службой! — наказал государь и прошёл к себе.
— Просто я в сорочке родился! Теперь Фомка гриб съел! — придя в себя от неожиданного счастья, выговорил, думая вслух, Балакирев.
Глава VI. От царя недалеко — быть нелегко
Уставший Балакирев, сменившись с часов, пустился к большому перевозу в самых радужных надеждах. Переехал через Неву и — в царский дом. Спросил Мошкова. Привели в подвал со двора к какой-то казенке и велели ждать выхода оттуда его милости Петра Иваныча. Балакирев ожидал командира не ниже полковника, бравого, молодцеватого, с усищами чуть не с версту, и как сильно ошибся в своих представлениях. Долго брякая счетами, вышел наконец из закуты подслеповатый низенький человечек в замасленном, потёртом кафтанчике, за который жалко было дать три алтына.
— Можно видеть господина Мошкова?
— Петра Иванова коли, — я самый и есть!
— Что царским домом заправляет, что ль?
— Опять я же… чего тебе?
— Государь велел мне явиться… во дворец берет.
— Слышал… так этот юрок-от ты, значит? Н-ну, братец, дай-кось тебя порассмотреть! Хорош, что говорить! Малый хошь куда! — молвил Мошков, взяв Балакирева за руку и поворачивая кругом. — Велено мне тебя поставить, вишь, туды, где нужно, чтобы дело шло живо, сказал царь-от Пётр Алексеич!.. А где бы у нас такая живость, что ль, требовалася, не указал. А я сам, старый человек, в подклете верховым сызмала вертелся, а спешки какой ни на есть не заприметил! Так ты ужо, юрок, как царь-от говорит, изобрети мне сам дело-то своё, а я те на оное и поставлю. А покелича поприсмотрись, затем что новый ты человек… Потолкайся!.. А я уж домой пойду… шти давно простыли… Вот какое наше дело… и без живости умаешься, день-деньской.