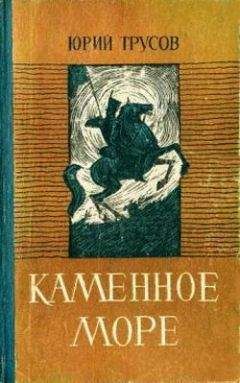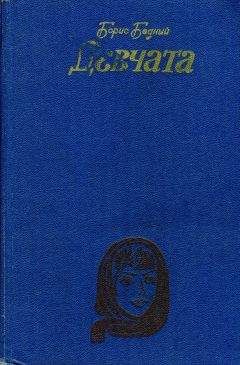Пестель как истинный друг греческих повстанцев делал все возможное, чтобы они получили скорее помощь от русской армии, потому что их положение стало поистине трагичным.[60]
На отчаянный вопль о помощи Александра Ипсиланти царь ответил, что греки бунтуют против своего законного государя султана, поэтому он не может помочь им… На царя повлиял австрийский канцлер реакционер князь Меттерних. Он убедил Александра Первого, что гетеристы действуют с единой целью – поссорить Австрию с Россией по заданию неких мифических парижских революционеров.[61]
Теснимый со всех сторон врагами, получив от царя вместо ожидаемой помощи отказ, Ипсиланти окончательно потерял веру в победу. Он бросил войско и, проклиная своих товарищей по оружию, обвиняя их в подлости и трусости, бежал в Австрию. Здесь его по приказанию Меттерниха предательски схватили австрийские жандармы, заточили в крепость, где он и умер.
А его товарищи мужественно продолжали борьбу с полчищами янычар. Окруженные со всех сторон врагами, они почти все пали смертью храбрых в битве под Драгошанами.[62]
Страшная трагедия, разыгравшаяся в дунайских княжествах, где озверевшие янычары дотла сжигали деревни и города, вырезая крестьянское население, вылилась в сплошные греческие погромы, которые прокатились по всей Османской империи. Султанские изверги стали убивать греков без разбора. От убеленных сединами стариков до новорожденных младенцев. Мучительным казням подвергались даже самые богатые фанариоты. В Стамбуле опьяневшие от крови янычары ворвались в патриарший дворец, перерезали греческих священников, а самого константинопольского патриарха Георгия V, высохшего немощного восьмидесятичетырехлетнего старца, повесили на воротах дворца.[63]
Но греческая трагедия не поколебала трусливой позиции православного русского царя. Он по-прежнему соблюдал предательский нейтралитет. Не поколебало его позиции в этом вопросе, конечно, и донесение Пестеля «О возмущении греков».
Это толковое умное донесение Александр Первый прочитал с удовлетворением. Царь любил, когда порученное задание его подчиненные выполняли аккуратно и хорошо. На вопрос министра иностранных дел Нессельроде: «Кто это из дипломатов смог так умно и верно описать положение Греции и христиан на Востоке?», император самодовольно улыбнулся:
– Не более и не менее, как только армейский подполковник. Да, вот какие у меня служат в армии подполковники!
Удовольствие, которое испытывал император, высоко оценив доклад Пестеля по греческому вопросу, не прошло бесследно. Пестель давно стремился получить в свое распоряжение отдельную воинскую часть, чтобы иметь возможность, командуя ею, поднять восстание. Поэтому он с нетерпением ждал приказа о своем производстве в полковники и назначение командиром полка.
Но хотя в конце 1820 года во Второй армии освободилось место полкового командира и Киселев предложил на эту должность Пестеля, царь не согласился с его рекомендацией. В доносе, полученном царем от библиотекаря главного штаба Грибовского, среди членов тайного общества упоминалась фамилия Пестеля. Правда, доносчик сообщал, что тайное общество – Союз благоденствия – само себя распустило, однако Александр Первый распорядился вычеркнуть фамилию Пестеля из списка подлежащих к производству в полковники.
А Пестель, не зная причины задержки своего назначения в полковники, нервничал. Срывался его заветный план дальнейших революционных действий. И, устав ожидать царского приказа, он решил искать другие пути к намеченной цели. Павел Иванович стал вести переговоры с графом Иваном Осиповичем Виттом – невысоким с фатовскими усиками, пустыми глазами, фанфаронистым генерал-лейтенантом.
Отец Витта – Иосиф – голландец родом, служил некогда генералом Речи Посполитой. Он из меркантильных соображений уступил свою супругу гречанку Софию – замечательную красавицу, богатейшему магнату помещику на Украине Станиславу Потоцкому. Воспитанный в растленной атмосфере предательства и лжи, Иван Осипович Витт сделал блестящую карьеру в свите Александра Первого. Он выполнял с успехом самые деликатные поручения. Был соглядатаем царя в Вене, в Варшаве, в главной квартире Наполеона, а сейчас командовал Бугскими военными поселениями и состоял обер-шпионом императора на юге России.
«Сколько я его знаю – он лжец и самый неосновательный человек… „Двухличка“, – писал о нем Багратион Барклаю де Толли в 1811 году.[64]
Пестель хорошо знал о всех этих качествах Витта, но рассчитывал, перейдя к нему на службу, получить под свою команду отдельную часть. Для успеха своего замысла, крайне нужного тайному обществу, Пестель готов был стать родственником Витта – жениться на его дочери графине Изабелле… Но вдруг пришел нежданно из Петербурга высочайший приказ о производстве Пестеля в полковники и назначении его командиром Вятского пехотного полка, стоящего в Линцах.
Видимо, впечатление, которое произвел доклад Пестеля о греческом восстании, было таково, что царь решил продвижением по службе подкупить нужного ему толкового человека.
Пестель, читая приказ о своем назначении, облегченно вздохнул. Теперь можно было навсегда отложить тягостную для него женитьбу на графине Изабелле и порвать всякое знакомство с неприятным, фальшивым вельможей Виттом.
Пестель в своем донесении недаром писал, что султанским правительством «самые священные и законные интересы империи не признаются и попираются…».[65]
Упадок торговли хлебом ущемил интересы привилегированного сословия тогдашнего русского государства – помещиков, главных поставщиков хлеба на международный рынок. Но Александр Первый настолько попал под влияние австрийского канцлера Меттерниха, что продолжал своей политикой подрывать престиж родной страны. Он даже отстранил от службы министра иностранных дел Иоанна Каподистрию, который убеждал царя в необходимости отпора султанской агрессии на Балканах.
Козни султанского правительства болезненно почувствовали жители Одессы и других черноморских портов. Деловая жизнь в этих городах во многом зависела от заморской торговли. И лишь только в Карантинной гавани Одессы перестали бегать один за одним по сходням сносчики[66] с мешками зерна, лихо опрокидывая их над арфой,[67] прикрывавшей люк корабельного трюма, жизнь в порту замерла.
Одесситам было грустно приходить в опустевшую гавань, где не слышались уже веселые покрикивания портовых работников:
– Чок! Чок! Чок!
– Вира по малу!
– Майна банда!
– Ай да наша, кадка, кадочка!
– Крутится – вертится!
Где перестала литься, словно золотой поток, отборная украинская пшеница, ударяясь в проволочные струны трюмной арфы, где перестали подымать на кораблях белые паруса.
Такая участь постигла и видавшую виды ветхую шхуну «Марину», на которой в должности подшкипера плавал Иванко Мунтяну.
Владелец и шкипер шхуны Яков Родонаки, не имея фрахта, вынужден был распустить экипаж своего судна, оставив лишь для присмотра за «Мариной» престарелого боцмана.
Таким образом, неожиданно Иванко стал безработным, «сухопутным моряком». С неделю он отдыхал, отсыпался, никуда не выходя из домика и вишневого садочка стариков Чухраев, которые уехали к Кондрату в Трикратное. Всласть лакомился Иванко и чисто одесскими блюдами, по которым истосковался, странствуя по свету: ел плов из мидий, жареную и копченую скумбрию, мамалыгу с брынзой, которую ему готовила старуха-молдаванка. Все это он запивал кислым холодным вином…
Однако сытая, однообразная жизнь вскоре наскучила. Надоели и вино, и брынза, и мидии, и скумбрия. Иванко потянуло к морю.
Хмурый и задумчивый, он целые дни стал проводить в гавани, слоняясь по берегу, по опустевшим причалам, возле которых покачивались на ленивых волнах, скрипя швартовыми, огромные корабли.[68]
Вид этих пленников, привязанных крепкими канатами к берегу, наводил тоску. Иванко чувствовал, что он вместе с кораблями разделяет одну горькую участь… Когда же, когда на голых мачтах этих морских исполинов поднимутся паруса, и корабли снова отправятся в свои странствования по морям и океанам?
Когда?…
Томимый бездельем, Иванко как-то вечером присел на причальную тумбу – старинную чугунную пушку, врытую в береговой суглинок, и с тоской, (который раз!) разглядывал пустынные морские волны, словно раскаленные от ярко-красных лучей заката.
К нему подошли двое мужчин. Один – высокий, помоложе, в офицерском артиллерийском мундире – малого чина. А другой – постарше в черном партикулярном[69] господском сюртуке и белых панталонах.