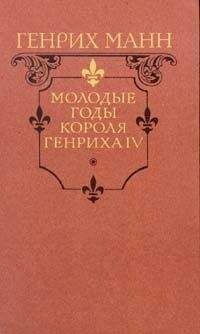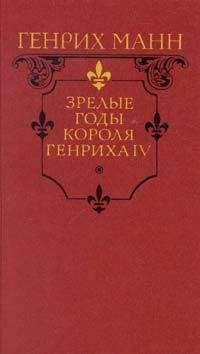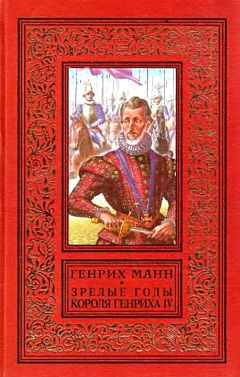Тут же рядом шушукались придворные. А все-таки остается впечатление, что все это козни королевы-матери. Пока еще ее планы неясны, но их смысл может открыться раньше, чем мы думаем, и оказаться еще ужаснее. Ведь Карл Девятый поручил протестанту де ла Ну командовать войсками, которые должны вырвать из рук испанцев крепость Монс. Де ла Ну уведет с собой своих самых боевых единоверцев, и, адмиралу здесь, в Париже, туго придется без них. Чудные дела творятся. Ничего сказать нельзя — запрещено! И знать запрещается. Говорят, свадебные торжества будут необычайно пышные.
То же единодушно утверждали и дамы; но и дамы и мужчины из всех представленных здесь сословий буквально онемели, когда заметили происходящее на хорах. Вместо того чтобы прослушать обедню, король Наваррский бросил молодую королеву, а сам с несколькими протестантами из своей свиты удалился через боковую дверь. Хотя такой выходки и можно было ожидать, но все-таки это был скандал. Каждому известно, что, когда начинается обедня, черт при первом же слове поджимает хвост и наутек; но неужели новобрачный не мог хоть соблюсти приличия и потерпеть? Хорошо, что каждого из ушедших заприметили. Ну, да этим нахальным штучкам теперь скоро положат конец.
Обойдя собор, Генрих вернулся во дворец епископа. Его сопровождали только ревнители истинной веры, тут были и те, кого он уже давно не видел, но в этот великий день и они были тут. Среди них оказался и его прежний воспитатель, Бовуа, некогда столь ловко покрывавший проделки Генриха в Collegium Navarra, когда мальчик выдерживал трудную борьбу, чтобы не идти к обедне.
— Бовуа! — восторженно воскликнул Генрих. — Разве мы оба не пошли в гору? У вас теперь красивый дом в Париже, я женюсь на сестре короля, а насчет хождения к обедне никто и не вспоминает.
Грузный старик отвечал: — Сир, я стал ленив и тяжел на подъем. Потому и коротаю свои последние деньки в наглухо замкнутом доме, люди дают мне всякие мерзкие прозвища и пишут их на дверях.
Он подмигнул. Толстяк охотно напомнил бы своему воспитаннику многое, о чем тот среди победных настроений позабыл или что не соответствовало этим настроениям. Несколько голосов потребовали вина. Но Генрих был пьян от одних мыслей о Марго. Кажется, ждать уже невозможно, время тянется нестерпимо, и все-таки оно мчится на крыльях счастья, а старик Хронос катит на легком шаре Фортуны. В четыре часа пришли доложить, что обедня сейчас кончится. Новобрачный отправился в собор и увел жену. В присутствии короля Франции Генрих поцеловал ее: гугенот с юга поцеловал принцессу Валуа. Это зрелище заставила умолкнуть немало злых языков. Весь двор опять проследовал по праздничной галерее во дворец епископа, и вновь любовались повадками знати все зрители — простолюдины и почтенные горожане. Обед состоялся во дворце, а вечером праздник продолжался в замке Лувр. Его стены увидели бесконечные танцы, которые были прерваны только шествием серебряных скал. Через огромную залу под двадцатью люстрами проплыли с помощью мощных незримых механизмов десять сверкающих глыб, и на первой из них, олицетворяя собою бога Нептуна, восседал сам Карл Девятый, почти голый, ибо любил хвастать своим телосложением. За ним следовали его братья, а также другие дворяне, переодетые богами и морскими чудищами. Машины громыхали, и полотняные скалы морщились длинными складками. И все-таки нельзя было не подивиться тому искусству, с каким все это было сделано, тем более что музыканты пели французские куплеты, сочиненные лучшими поэтами.
Ужин начался поздно, и, когда сели за стол, некоторые пары уже условились пожениться, подобно Марго и королю Наваррскому, который хоть и не любил обедни, но тем сильнее любил принцессу. Прекрасным фрейлинам старой королевы было разрешено сегодня покорять гугенотов сколько им вздумается. По отношению к Агриппе д’Обинье это оказалось нетрудным; возгорясь пламенными чувствами, он пообещал каждой все, чего бы та ни пожелала. Дю Барта духом остался тверд, и только плоть его сдалась. Мысли третьего друга новобрачного, Филиппа дю Плесси-Морнея, витали где-то далеко. Он принадлежал к тем натурам, которые даже посреди оргий сохраняют отсутствующий вид и чрезмерную чистоту. Как раз в такие минуты люди и доходят до крайностей: одни — в своих пороках, другие — в добродетелях. Его сократовское лицо было просветлено гневом, и он воскликнул, покрывая шум оргии:
— До чего же дошло наше ребячье неразумие! Мы готовы поменяться местами со скоморохом, играющим в трагедии роль короля! Он тащит за собой на подмостки золотую парчу, а через два часа возвращает ее старьевщику вместе с деньгами за прокат. О том, что под нею прячутся грязные лохмотья, насекомые и болячки, мы не думаем, а ведь сколько раз, изображая государя, он вынужден почесываться и, хвастаясь своим величием, корежится от нестерпимого зуда!
Раздались негодующие возгласы. Но кто их слушал? Брат Карла Девятого и его будущий преемник, — когда Карл наконец изойдет кровью, — да, сам герцог Анжуйский радостно хлопнул Филиппа по плечу и шепнул ему на ухо: — Этот скоморох и есть мой братец! От меня вам нечего скрывать ваше мнение, я разделяю его. Меня влечет к вам, протестантам, ваша прямота и откровенность — эти качества бывают только при глубочайшей вере в бога.
Сближение принца крови со скромным солдатом господа вызвало подражание; а может быть, оно само было только одним из многих братаний, начавшихся между католиками и протестантами? Они уже сжимали друг друга в объятиях, например, господин де Леран обнимал капитана де Нансея. Молодой Леви, виконт де Леран, выделялся среди своих сверстников, это был настоящий паж — красивый, стройный, живой. Силач де Нансей прижимал его к себе с такой силой, точно хотел в приливе любви раздавить ему грудную клетку; но юноша выскользнул у него из рук, словно кусок масла, и вдруг укусил толстяка за ухо. Миг сомнения — что же теперь будет? — затем взрыв дружного хохота: такова была эта ночь.
У нее было, несомненно, лицо Венеры: даже скептики, вроде дю Барта, — правда, их было немного, — увидели его совершенно явственно. Но и от них ускользнуло то обстоятельство, что это все подстроено мадам Екатериной. Она выслала в бой свой летучий отряд, и, следуя ее приказу, фрейлины сделали то, чего не мог сделать никто: они уничтожили все различия между религиями. Господь бог никогда еще их не смешивал, и — вот нынче ночью за дело взялась, правда, на свой особый лад, госпожа Венера. Из всех языческих божеств ей в известном смысле меньше всего присущи обман и коварство, и если она что обещает, то немедленно и дает. Во всяком случае, при французском дворе, где все должно было служить целям мадам Екатерины, любая пара после сговора тут же удалялась. Поэтому часть гостей все время исчезала в комнатах фрейлин, предаваясь там беспорядочным наслаждениям при открытых дверях, причем вновь прибывшие искали свободного места, а того, кто еще был занят с дамой, ожидающие своей очереди подбадривали с ревнивым сочувствием. Затем возвращались к танцам.
Временами огромная зала оказывалась наполовину пустой, и музыка на хорах гремела слишком гулко, как в пустом помещении. Еще оставались пьяницы, оставались философы. Нежно склонившись к Марго, еще сидел здесь Генрих. Над новобрачными пестрым шатром свешивались знамена французских провинций, знамена, взятые в былых сражениях, в далеких странах. Но влюбленным казалось, будто они наедине. Генрих говорил ей, что он ее любил всегда, всегда любил только ее. Марго отвечала и лично от себя и от имени своего сердца, уверяя, что и она тоже. Она верила Генриху, а Генрих ей, хотя оба знали, что на самом деле не всегда было так. Но сейчас оба чувствовали, что теперь это стало правдой. Вот он — мой единственный возлюбленный. Я не знал ни одной женщины, кроме вот этой, с нее начнется моя жизнь. Он моя весна, без него я бы скоро состарилась.
— Генрих! Ты сложен с такой соразмерностью, какой требует канон античности. Клянусь честью, ты заслуживаешь награды!
— Марго! Я с радостью готов разделить с тобой эту награду: сколько ты захочешь и выдержишь.
— Доказательство не терпит отсрочки… — начал ее звучный голос, а прекрасное лицо досказало остальное. Он быстро вскочил с колен, и они вступили на тот путь, по которому уже прошли многие. И хотя это путь плоти, но бывает, что и плоть может одушевиться. Когда они вышли из большой залы, Генрих схватил ее и понес. Он нес Марго перед собою. Солдаты отдавали им честь и что есть силы стучали сапогами. Пьяные, уже свалившиеся на пол, пытались проводить их взглядом.
Однако осуществлению страстного намерения мешал брачный наряд принцессы: он топорщился на бедрах четырехугольником, и Марго была заперта в нем, точно в ящике. Тут молодой любовник выказал и осмотрительность и многоопытность. Он не стал грубо мять блистающую оболочку, но мгновенно раскрыл ее. «Не сравнить с Гизом, — еще успела подумать Марго, — хотя тот выше ростом и по внешности сразу скажешь, что дворянин!» Но вот оболочка, точно раковина, открыта, и жемчужина обнажена. Вместо того чтобы подольше соблазнять его этой драгоценностью, Марго приказала коленям слегка ослабеть и подогнуться, сделала вид, что падает, дала себя подхватить и потом бросить туда, куда ей хотелось, — на ее знаменитую кровать, обтянутую черным тяжелым шелком. «Этот любит женщин и тем меньше знает их! Этого я сумею удержать…» — хотела еще сказать про себя Марго. Но уже погасли слух и зрение — к большой выгоде остальных чувств.