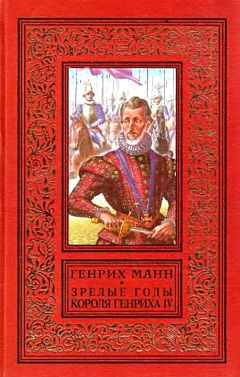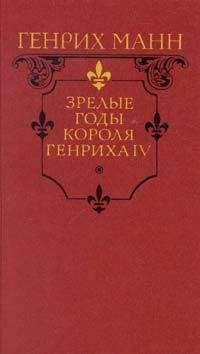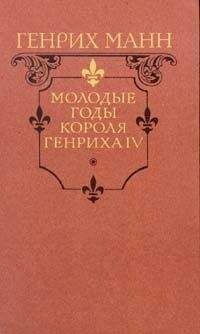Легко и согласно проносилось все это в его освобожденном мозгу, ибо он еще раньше все постиг и познал, — он уже сам не помнил, в какой муке и тоске. Ему казалось, что он чистым волшебством, подобным музыке, перенесен в сферу высшего счастья, весь в белом с золотом, милые мои; однако звуки скрипки становятся глубже и неяснее, хотя исполнение далеко не мастерское. Кто это может быть, как не Агриппа! Генрих выходит на балкон, за ближайшими кустами он различает руку, водящую смычком. Он смеется, кивает, и Агриппа показывается в своем обычном будничном колете, в церковь он не пойдет. Он не будет при том, как Генрих отречется от истинной веры; но он услаждает его вдохновенным звучанием инструмента, который зовется Viola d’amour.
Сначала у него чуть задрожал подбородок, потому что ведь известно: мы легкомысленны и слезливы. Однако он вовремя заметил, что его добрый Агриппа потешается над ним бесхитростно и любовно. Тогда и Генрих прищурил глаза, и так они попеременно забавляли друг друга, внизу старый друг, воздающий хвалу в насмешку и в утешение, здесь наверху — белый причастник, борода у него седая, а кожа обветренная. Наконец оба отбросили чинные манеры; Генрих стал изображать даму в пышном наряде, которую приветствуют серенадой, Агриппа же пиликал на скрипке и собрался вдобавок кукарекать, что было уже совсем неприлично. Зазвонили соборные колокола, сразу в полную мощь. Оба испугались, один исчез в кустах. Другой мигом очутился в комнате, оправил одежду, провел рукой по плюмажу, чтобы он развевался как следует, но тут дверь уже отворилась. За ним пришли.
Этот благословенный Богом день, двадцать пятое июля 1593 года, мог быть только лучезарным и жарким. Парижский народ знал обо всем заранее, он нарядился в лучшие одежды, какие уцелели от бедственных времен. Люди держали под мышкой охапки цветов, а руки их были заняты корзинами, полными снеди. Весь этот воскресный день предстоит провести в Сен-Дени, потому что король отрекается и переходит в новую веру, что представляет собой достопримечательную, но весьма длительную церемонию; ради нее придется, пожалуй, пожертвовать семейным обедом. Не беда, — уж очень это редкостное зрелище. Кстати, потом можно будет удобно расположиться на лугах: корзины надо поставить наземь заранее, красть никто не станет, слишком мы все довольны.
Цветами же будет усыпана улица вдоль всего пути короля. Он, говорят, одет во все белое, так гласила молва, опередившая его. Его белые шелковые туфли окрасятся соком роз. Женщины твердо верят, что он прекрасный принц, и хотят, чтобы их стараниями ноги его ступали по розовым лепесткам; поэтому они так толкаются и теснятся посреди дороги, а некоторые даже падают. Стражникам это причиняет больше досады, чем им самим. Те сперва предостерегают, их никто не слышит в гуле церковных колоколов и в пылу воодушевления, предвосхищающего само событие. Затем солдаты пускают в ход всю свою отнюдь не злую, а добрую волю, и таким образом отряду удается занять обе стороны улицы. Хорошо, что вовремя, ибо тут как раз появляется шествие.
Что замечает король, когда идет по узкому проходу между сгрудившимися толпами? Он видит, что из окон вывешены пестрые ткани, он видит, что земля усыпана цветами и дети все еще продолжают бросать розы через головы солдат. На всех до единого белая перевязь, отличие приверженцев короля, у всех счастливые лица — иные благочестиво задумчивы, другие водят языком по губам от сильного нетерпения, но большинство кричит: «Да здравствует король!» Гулкие голоса колоколов поглощают эти клики; они кажутся жалкими и ничтожными ввиду грандиозности события, да если вглядеться поближе, разве и на лицах не видны остатки страха? Король думает: «Пять лет страха, нужды и дурных страстей осталось у них позади. Если бы я не сделал больше ничего, только дал им этот праздник, и того было бы почти достаточно. Но нужно сделать больше, все мало для чаяний такого множества людей». В эти минуты ему захотелось склонить голову под гнетом непреодолимого бессилья, — разве можно сделать всех людей счастливыми или хотя бы накормить их досыта? Но он должен был держать голову высоко, чтобы они воочию узрели славу и мощь, его и свою.
Народ видит его, окруженного принцами и вельможами, высшими государственными чинами, дворянами и законоведами; последние очень многочисленны. Из его семьи идут с ним немногие, однако граф де Суассон как раз успел прибыть. Впереди и позади телохранители и швейцарцы с барабанами, в которые они не бьют. Двенадцать труб, поднятых к губам, безмолвствуют из-за звона колоколов и чтобы не нарушать святости происходящего. Это чувствует народ, он вполне проникает в существо вещей — и когда участвует в зверствах и заражается всеобщим дурманом, и когда созерцает величие и добро. Он, конечно, любуется роскошной одеждой своего короля, его строгим лицом и солдатской выправкой. Однако высоко поднятые дуги бровей выражают скорбь, глаза слишком широко раскрыты; ему всего сорок пять лет или немногим больше, а такой седой человек! Бог весть сколько раскаяния, сколько собственных горестей готовы пробудиться в душах этих многолетних врагов короля — пожалуй, несколько поздно надумали они прославлять его и теперь стоят тут покорной толпой. Правда, при всеобщих криках «ура» некоторые голоса непроизвольно замирали. Некоторые колени пытались преклониться — но это не удавалось по причине большой давки.
Какая-то кумушка, видимо опытная и бывалая, сказала внятно, так что услыхали и окружающие, и проходивший мимо король:
— Он красивый мужчина. У него нос больше, чем у других королей.
В ответ на это раздался безудержный смех. Король охотно бы задержался; его нахмуренный лоб чуть разгладился. Еще раз у него был соблазн остановиться, когда несколько зрителей в потертых кожаных колетах молча и пристально поглядели на него — нет, вернее не на него, а на шляпу; ее украшал белый аметист. «В последний раз я был в ней при Иври. Эти старики, пожалуй, из более давних времен, они видели ее уже при Кутра». Он искал их взгляда, и они встретились глазами, он шел, повернув к ним голову, пока другие не заслонили их.
У паперти собора не успел Генрих подняться на первую ступень, как ему стало дурно. Странное чувство, — он на миг теряет почву под ногами; хотя камни мостовой никуда не делись, ему приходится нащупывать их, присутствие толпы тоже перестало ощущаться, лица и голоса куда-то уплывают. Это случилось на протяжении одного шага; затем все прошло, и, пока Генрих всходил на паперть, у него оставалось лишь мимолетное воспоминание: прищурившийся великан. С мыслью о великане, который щурится, скрывая блеск глаз, покинул он нижнюю ступеньку, а дальше душой и телом отдался своей задаче.
Он вступил в собор через главный портал. Пройдя пять или шесть шагов, он очутился перед архиепископом Буржским, сидевшим на возвышении в обтянутом белым узорчатым атласом кресле; вокруг него прелаты. Архиепископ спросил, кто он, и его величество ответил:
— Я король.
Упомянутый монсеньер Буржский, у которого сейчас отнюдь не было свиного рыла, наоборот, каждый взгляд его выражал достоинство, каждое слово из его уст выражало духовную мощь — итак, монсеньер начал снова:
— Чего вы желаете?
— Я желаю, — сказал его величество, — быть принятым в лоно римской католической апостольской церкви.
— Желаете ли вы этого искренне? — сказал монсеньер Буржский. На что его величество дал ответ:
— Да, я хочу и желаю этого. — И, преклонив колени на подушку, которую ему подсунул кардинал дю Перрон[40], король прочитал символ веры — не позабыл также отречься от всякой ереси и поклялся истребить еретиков.
Все это было выслушано, кроме того, король вручил архиепископу, который сидя протянул руку, им самим написанное исповедание новой его веры. Только тогда архиепископ приподнялся со своего места. На краткий миг, пока он вставал, могло показаться, будто он колеблется и не знает, что ему делать дальше. Виной тому был напряженный взгляд его величества, широко открытые глаза, те же, которые при Иври сковали и задержали отряд неприятельских копейщиков, пока не подоспела помощь. Здесь, наоборот, никто не ожидает «его» людей, скорее он сам «наш». При этой мысли архиепископ встал окончательно. Не снимая с головы митры, он поднес королю святую воду, дал поцеловать крест, отпустил ему грехи и благословил его.
И монсеньер Буржский и Генрих точно знали дальнейший ход церемонии, однако им стоило большого труда пройти через церковь к клиросу: народ заполнил весь собор, взобрался под самые своды, и не было ни одного отверстия в цветных оконницах, в которое не лезли бы люди. На клиросе Генрих должен был просто повторить свои клятвы; на сей раз он позволил себе проявить некоторую долю нетерпения и значительную небрежность. Затем он проследовал за главный алтарь, где под звуки «Те Deum»[*] Генриху надлежало исповедаться, таков был распорядок. А на самом деле архиепископ Буржский громко засопел, Генрих закрыл глаза, и сказано было немного. «Моя возлюбленная повелительница, — думал Генрих. — Я лишь мельком видел ее. Знает ли она, что я заметил ее за пилястром! Прекраснее, чем девы рая, обольстительна, как ночь, ах, хорошо, если бы уже была ночь!» Этого он желал еще и потому, что на пути сквозь толпу услышал от одного из своих роковое слово. Если так говорят свои, что же думает монсеньер Буржский? Ведь говоривший был служитель юстиции и вместе со всеми прочими следовал за своим государем в торжественном шествии к собору. «Теперь, когда я уже совершил смертельный прыжок, он шепчет зловещие пророчества. Сосед не расслышал его из-за гула толпы. Только мой чуткий слух уловил то слово: предсказание страшное и грозное».