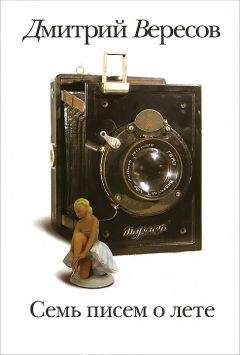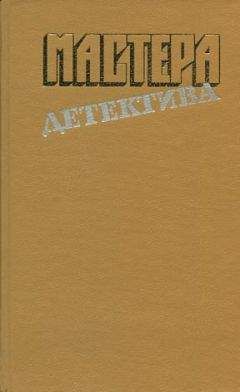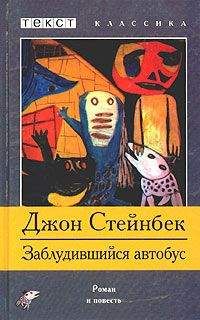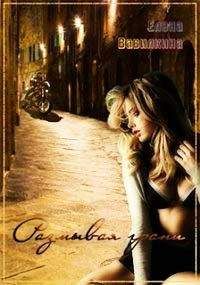В последние дни июля явилось наконец-то лето, стало душно – все июньские дожди испарялись, небо из зеленого сделалось белесым. Полиняло, говорил дед, значит, быть жаре. Он любил иногда предсказывать погоду, в особенности, правда, плохую. На то у меня есть спина, говорил, и гипертония.
Наташа настояла, чтобы дед с Асей отправились на дачу.
– Я больше никаких отговорок слышать не хочу, – говорила она. – Нет у вас, мои милые, причин, по которым непременно надо остаться в городе. Вы оба бледные и хилые городские создания. Вам надо на воздух, на солнце.
– Ма-аам! – возмущалась Ася. – Воздуха и здесь до фига! Достала дача за всю жизнь! Без компа я ваще сдохну!
– Аська! Это с компом ты скоро сдо… последнее здоровье потеряешь! Глаза красные, под носом сыро, кожа нездоровая. Или в облаках витаешь, или раздражительность сверх всякой меры! Угомонись и собирайся!
– Ната! – бунтовал дед. – Я прекрасно себя чувствую! И сейчас не имею возможности ехать на дачу. У меня назначена масса встреч. Я не могу подводить людей. Особенно женщин. Я ведь не современный поскакун – пообещал и забыл. И потом на даче нельзя не наклоняться – то одно, то другое. Или грядку вскопать, к примеру? Полить твои цветочки? А моя спина? А давление?
– Какие грядки, Андрей Платонович? – несказанно удивилась Наташа. – Когда это у нас были грядки?
– Пора бы им быть… У всех есть.
– Кто же у нас будет огородничать? И что толку сажать в песок?
– Ну клумбы, – упрямился дед.
– Боже! Клумбы! Одно название! Что, может, там все само растет. А не растет, так и ладно. Колокольчики точно растут, они неприхотливые, и ромашки. И флоксам ничего не сделается – зацветут через пару недель. Нет, что за отговорки? Алекс, хоть ты скажи! У нас бунт на корабле!
– Отец, езжай уж с Аськой, – вступил Александр Андреевич. – Ничего там не надо делать, даже печку топить – жара. Мы с Наташей приедем к выходным, что надо привезем, что надо приберем. С твоей спиной и прочим мороки больше здесь, чем на даче. Ты и сам это отлично знаешь.
– Анастасия, нас отправляют в ссылку, – вздохнул дед. – Двадцать четыре часа на сборы. Жестокие люди! Остается смириться с неизбежным. Или надеяться, что завтра пойдет дождь и будет лить все лето.
Быстро снарядили машину – средних лет «жигули»-пятерку, купленную дедом во времена благополучия и былых надежд, – и отправились знакомой дорожкой. Когда пролетали Павловск, бурчавшая всю дорогу Ася притихла. Потом стала изображать мировую скорбь и меланхолию, да так успешно, что несчастный эмо-бой на ее сумке обзавидовался бы. Но внимания на Асины, как раньше говорили, эволюции никто не обращал – дело было привычное, и существовал меж взрослыми некий воспитательный заговор.
Дача была в Вырице, в самой дали, определяемой третьей железнодорожной платформой. Там тишина и благодать. И воздух воздухом не назовешь, а назовешь волшебством животворящим – не иначе. Там елки шатрами до небес, там береза у дома величава, приветлива и добра, как нянюшка. Там дождевая вода уходит в песок и уносит, смывает городскую дребедень и дурноту, оставляя главное. Там речка Оредеж – вода живая в красных обрывистых берегах, берега – в птичьих норках, и ласточки-береговушки мелькают над водой черными стрелками; склоны – в мягкой траве и в широко разбежавшихся соснах, или лес – дремучий мир спускается к самому берегу, а в лесу грибы, особенно по краям старых военных воронок и окопов, почему – тайна, и ягоды – земляника, черника, но по сладости год на год не приходится.
– Кислятина будет в этом году, – заявил дед. – Такая мокрость была в самое цветение. Опять дверь в сарае просела. Ася, помоги-ка мне открыть – пусть внутри проветрится, просохнет. Не проржавел бы инструмент. Что бы там Натка ни говорила, а копать придется. Вон как расползлись ее клумбы.
И подмигнул Асе, мол, на два слова, к сараю.
– Ну? – спросила Ася, кислая, как предполагаемая ягода.
– Ася, я действительно не могу не пойти на одну важную встречу, то есть на две. То есть пока на две, а там видно будет, – сообщил дед. – Ты же разумная девочка. Надеюсь, денек, а потом еще денек ты сможешь провести без меня?
– Да хоть неделю, – мрачно ответила Ася. – Хоть все лето.
– До этого вряд ли дойдет.
– Жаль.
– Ася, я все равно не рассержусь. Поэтому грубить ни к чему. И еще я попрошу тебя не рассказывать родителям о моих отлучках. Они совершенно не понимают, что я еще не старая развалина в маразме, а ты уже взрослая и днем вполне способна побыть одна. Вечером я буду возвращаться, ты не беспокойся.
– Я не беспокоюсь, – буркнула Ася. – Можешь даже не возвращаться. Но мое молчание дорого будет стоить!
– Ася! Я шокирован! – изобразил шутовской испуг дед. – Ты меня шантажируешь?
– Дед, не тупи, раз не в маразме. Все ты уже понял.
– Твои разъезды влетят в копеечку. Это я могу кататься туда-сюда почти бесплатно. По крайней мере ограничься днем в неделю.
– Двумя, и точка, – отрезала Ася.
– Грабеж, – вздохнул дед.
– Шантаж, – первый раз за два дня улыбнулась Ася. – Я, кстати, могу ночевать у Синицы, она с предками только в конце августа дней на десять на море уедет. Ее, между прочим, дачей не мордуют, хотя у нее двоюродная бабка то ли в Новгородской, то ли в Псковской. Гдов – это где? Короче, дед, я ночую у Синицы, предки не будут против, они у нее прикольные – в театре играют, их все равно полночи нет, а тебе экономия выйдет в двойную цену билета.
– Там посмотрим, – проворчал дед.
Так составился заговор, благодаря которому Ася могла ненадолго возвращаться в город, которому она доверяла, который питал ее влюбленность, обнадеживал, принимая в свое пространство.
В городе оставался и Микки, явившийся накануне отбытия на дачу к Асиному парадному с извинениями неизвестно за что. Он ее полдня прождал – караулил, потому что на мобильные звонки она не отвечала. Ася устыдилась – собственно, стыд в последнее время стал ее стихией или, в лучшем случае, внутренней погодой – и отправилась в обнимку с Микки бродить по набережным, уводя его, однако, от известных мест. Она не чувствовала себя вправе дарить ему то, что было подарено ей Мишкой.
…В первую же дачную ночь Ася вылезла на крыльцо, уселась на рассохшиеся шаткие ступеньки. Невысоко висела половина луны, горизонт светился мягко, как монитор компьютера. На светлом небе не было видно ни звездочки. Ночь блюла тишину. Белым сном спала береза у калитки.
«Здравствуй, Мишка, – начала Ася. – Мне так тебя недостает. Я люблю тебя – это главное, что я хочу тебе сказать…»
Почему-то Микки существовал отдельно от Мишки.
Ах, сердце бедное мое,
гори теперь, гори,
и говори лишь о любви,
о ней лишь говори.
Герда аккуратно сложила халат, упаковала его в плотную оберточную бумагу, специально для этого принесенную с собой из дому, и получившийся компактный пакет обвязала коричневой бумажной бечевкой. Она регулярно, не реже чем раз в неделю, забирала казенную одежду домой, в стирку. Это делалось по двум причинам: во-первых, Герда была очень требовательной к себе и придавала большое значение тому, как она выглядит на работе, а во-вторых, стирая спецодежду собственным мылом, она способствовала экономии государственных ресурсов, что приветствовалось руководством. Она подошла к старшему мастеру, и тот, предварительно отогнув край бумаги и заглянув в пакет, выдал ей маленький бумажный квадратик с написанным на нем синим карандашом словом «стирка», подписью и, его, старшего мастера, личным штампом.
Мастер проделал все необходимые манипуляции не спеша и с достоинством, чтобы девушка чувствовала его молчаливое одобрение, но, протянув ей проштампованную бумажку, не повернулся к ней, а продолжал строго смотреть прямо перед собой, чтобы ей было понятно, что поступать таким образом в тяжелое для страны время – долг и обязанность каждого гражданина. Герда понимала.
– До свидания, господин старший мастер.
Сделав книксен, Герда пошла по прямому и широкому центральному проходу к выходу из цеха, мимо свистящих и воющих станков, режущих сверкающий металл, – началась вечерняя смена. На проходной она отдала листик с визой мастера, предъявила свой сверток и, очутившись за воротами, побежала к остановке – успеть на подошедший трамвай. Вагон был полупустой, ее смена успела разъехаться, пока она ждала мастера, и Герде досталось свободное место. Она села, вытянув уставшие за двенадцатичасовое стояние ноги. Ехать предстояло сорок минут. Девушка сунула мягкий сверток под поясницу – не забыть! – и немного расслабилась. Полностью это сделать ей в последнее время не удавалось. Внутри все время присутствовало некое напряжение. И тому была причина, тайная, известная только ей одной.
Это началось почти полгода назад. Герде как раз исполнилось шестнадцать, на заводе она работала уже больше года, была на хорошем счету, и, когда фрау Хольт, давно мучившаяся отеком ног, совсем разболелась, на ее операцию старший мастер цеха господин Кнауф поставил ее, Герду, а пожилую фрау Хольт определил на заготовительный участок, где трудились инвалиды, потому что там работать можно было сидя. Герда целых два дня стояла рядом с фрау Хольт, обучаясь, и еще три дня проработала под ее наблюдением. После этого фрау Хольт доложила старшему мастеру, и господин Кнауф сам постоял за спиной Герды, проверяя ее работу. Как она волновалась тогда! Еще бы! Ведь порученная ей операция была завершающей, после нее изделие, над которым трудились все работающие в цехе, становилось законченным, в его суровой, холодной, безупречной красоте рождалась и с этой минуты чутко дремала, как будто прислушиваясь к происходящему вокруг, огромная сила, несущая смерть.