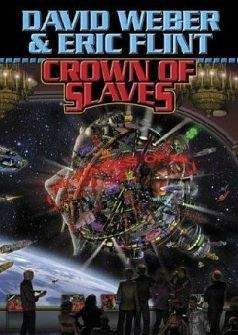Люди как люди: любят, ненавидят, ласкают жен и детей, пьют и едят, если найдут что поесть и выпить; среди них встречаются добрые и злые, честные и плутоватые, хорошие и плохие — все, как у свободных, все, как у эллинов. Значит — люди все-таки?
В памяти херсонеситки, благодаря острому умственному напряжению, без которого невозможно всякое серьезное размышление, с внезапной ясностью и четкостью возникли строки из книги «Правда» мудреца Антифонта, жившего в Афинах еще при Перикле; тогда она, еще девчонка, обратила мало внимания на случайно попавшуюся ей рукопись (Ламах почему-то забросил свиток в самый темный угол; теперь-то Гикия поняла, почему) — эти строки вспомнились ей сейчас почти дословно:
«Мы делим людей на варваров и эллинов, но при этом сами поступаем, как варвары… вот, например, египтяне считают только египтян людьми, а всех прочих — варварами, в том числе и греков. А в действительности между людьми нет никакой разницы: все рождаются голыми, дышат воздухом, едят руками…»
Ясно — такая «Правда» колола глаза Ламаху, жившему за счет рабов.
Однако, может быть, Антифонт ошибался? Но ведь и знаменитый Протагор из Абдер писал в «Фурийских законах», что все люди на земле по своей природе равны. Следовательно, и скиф, умерший сегодня от истязаний, такой же человек, как Гикия. А его убили, точно собаку…
Она вспомнила Ксанфа — он дружил с бывшим рабом Дато и хотел выдать дочь замуж за раба Кунхаса. Значит, кузнец видел в них людей.
Да, Орест прав — порядки в Херсонесе далеко не так справедливы, как ей казалось прежде.
И все же Гикия не могла согласиться с ним полностью. Его всеотрицающая правда, утверждая, пусть с ненавистью, незыблемость власти темных сил, убивала веру в светлую жизнь, разрушала надежду на наступление лучших дней и была потому ущербной, близорукой — ложной правдой.
Впрочем, она должна благодарить Ореста за косвенную помощь. Своим появлением и столкновением с Гикией на жизненной тропе он способствовал пробуждению дремавших в ней глубоких сил. Споры с мужем раскрыли для Гикии самое себя, и потому она сумела так быстро совершить в душе путь от сластолюбивой Сафо, через Эврипида, к подлинному человеколюбию Антифонта.
Путь не окончен.
Гикия с пристальной жадностью вглядывалась в туман будущего. Нет, нельзя вешать голову и хныкать по поводу несовершенства мира. Преступно возводить собственную слабость в мерило вещей и выдавать свою никчемность за общечеловеческий грех.
Надо искать, думать, надо что-то делать!
Асандр опять призвал Драконта.
— Ну как Херсонес?
— Потерпи, — ответил пират. — Я уже подготовился. Нам поможет кое-кто из херсонеситов. Теперь уже скоро…
— Сколько еще ждать? — недовольно проворчал царь. — Надоело. Боюсь, ничего не выйдет из твоей затеи. Кучу денег израсходовал, а проку пока что не вижу.
— Увидишь! — рассердился Драконт. — Уж если ты доверился мне, то не мешай довести дело до конца. Или я все брошу, и поступай, как знаешь. Посмотрим, что у тебя получится.
— Ладно, не горячись, — сказал Асандр примирительно. — Действуй по своему усмотрению. Главное — чтобы к зимним праздникам Диониса проклятый Херсонес оказался у меня в кулаке.
— Будет.
— Вот и хорошо.
И Асандр терпеливо ждал того благословенного дня, когда события, тащившиеся черепашьим шагом, должны были вдруг помчаться вскачь, словно лошади на ипподроме.
Захваченный одной неотвязной мыслью, он почти совсем забросил текущие дела.
Если царь, обирая народ, еще держался в каких-то пределах, то свора его приближенных, почувствовав некоторую свободу, совсем распоясалась. Боспор, над которым алчные эвпатриды творили суд и расправу по своей воле, тревожно гудел, точно огромный базар, на который среди бела дня напала шайка грабителей.
Как всегда, больше всех пострадали ремесленники. Земледельца, пока он не обмолотит хлеб и не свезет зерно в амбары, нет смысла трогать, урожай же мастера зреет под его рукой круглый год. Значит, и обобрать ремесленника можно в любое время. Народ волновался.
Это было очень выгодно Скрибонию, все еще прозябавшему в Киммерике.
Все чаще в глинобитных лачугах Нижнего города, в дымных кузницах, у жарких гончарных печей и вонючих засолочных ям появлялись пронырливые люди, не похожие на ремесленников ни походкой, ни лицом, ни руками, хотя они и нацепили для вида кожаные фартуки. Их опасные разговоры сводились к одному:
— Пора сбросить Асандра и посадить на его место Скрибония. Спирарх — друг простых людей. Царь изгнал его из столицы за то, что Скрибоний хотел заступиться за виноделов Тиритаки.
К удивлению осведомителей Скрибония, их речи не находили среди ремесленников широкого отклика.
«Что такое? — недоумевал спирарх. — Ведь чернь ненавидит Асандра. Почему же она не желает мне помочь?»
— Какое нам дело до Скрибония? — сказал Сфэр в кругу товарищей, собравшихся послушать спирархова посланца.
Винодел ушел от рыбаков, приютивших его после побега из Тиритаки, тайно пробрался в Пантикапей, переменил имя и нанялся в Нижнем городе подручным кузнеца.
Сфэра день и ночь точила тоска. Он узнал, что жена его, разлучившись с детьми, умерла в рабстве. Но куда девались дочурки — беглец, как ни старался, не мог выяснить.
Он жалел жену, хоть и плохо жил с ней в последние годы — не она и не он были в этом виноваты, а нужда проклятая, тяжесть бедняцкого существования.
Но еще больше жалел он детей — день и ночь ныло сердце, Сфэр часто видел во сне темные глаза и светлые волосы, темные волосы и светлые глаза…
— Какое нам дело до Скрибония, я спрашиваю? — продолжал Сфэр сердито. — Какое нам до него дело? Все там, наверху, одинаковы. Вечно грызут друг друга, точно бешеные собаки, обвиняют друг друга в невероятных преступлениях, объявляют себя спасителями народа. Но стоит только кому-нибудь из этих презренных болтунов попасть на трон, он начинает обирать нас похлеще прежнего царя.
На кой бес нужны народу ваши хилиархи, спирархи и прочие «архи»? Они уже давно вышли из нашего доверия. Зачем они стараются впутать нас в свою бесконечную грызню? Пусть глотают друг друга — мы-то тут при чем? Разве мы бессловесный скот, чтоб нами помыкали и вертели, как угодно, ради чьих-то там выгод? Пошли они все к вороньей матери. Нам подавай порядки, как. в Херсонесе!
— Скрибоний не такой, как иные, — убеждал тайный посланец. — Захватив власть, он снизит налоги и пошлины, предоставит городам полное самоуправление. Будете жить, как захотите.
Мастера задумывались. Может, не лжет посланец? Может, и впрямь при спирархе жизнь хоть немного улучшится? Во всяком случае, хуже, чем сейчас, не будет.
— Ладно! — Сфэр стиснул кулак. — Ладно, я говорю. Ладно. Передай Скрибонию — пусть начинает восстание. Мы поддержим, так уж быть. Но пусть запомнит — слышишь? — пусть он хорошенько запомнит: если спирарх обманет нас, я убью его собственной рукой. Так и передай…
Осень. Солнце пока еще печет, но только в полдень, — по утрам так холодно, что приходится натягивать толстую шерстяную тунику.
Борей рвет с дрожащих ветвей охапки желтых листьев, кружит их в стылом воздухе и бросает наземь. Странно глядеть на сады и поля — они оголились, кажется, будто земля вокруг опустела, до жути стала просторной.
В небе, еще недавно сиявшем яркой голубизной, собираются облака. Они темнеют и сгущаются в груды черных дождевых туч. Тихо. Тоскливо. Блекнет природа. И меркнет, все больше меркнет в сердце Гикии светлое чувство, которое она испытывала к Оресту.
Видно, Мойра, богиня судьбы, соединила двух таких разных людей только для того, чтобы потешить свою злобную душу. С первых дней между ними завязалась борьба, поначалу скрытная, затем все более напряженная, острая.
Как-то раз к воротам усадьбы прибрел, опираясь на посох, худой оборванный старик.
— Просит хлеба, — сообщила Клеариста, посланная Гикией узнать, зачем он явился. — Бедняга совсем болен, чуть стоит на ногах.
— Боже, — вздохнула Гикия. — Неужели этот несчастный так одинок, что принужден на склоне лет нищенствовать? Где же его община, почему она не заботится, как положено, о потерявшем трудоспособность старце?
Дочь Ламаха наполнила широкое блюдо мясом, хлебом, плодами и сама вынесла его за ворота. Орест, сидевший у окна, проводил жену той же насмешливо-презрительной улыбкой, которая так обидела Гикию недавно, когда Аспатана засек раба.
У ворот вдруг послышался чей-то гневный крик.
— Опять кого-то у-убивают? — лениво пробормотал Орест. Ему было скучно, и он, поколебавшись, нехотя поплелся со двора, чтобы посмотреть, что там еще случилось.
Нищий старик, занеся посох над головой Гикии, вопил хрипло и дико:
— Да, ты его погубила! С того дня, как мой сын увидел тебя в Херсонесе, он совсем переменился. Ты напустила на него порчу! Он таял у меня на глазах. Все твердил: «Артемида…» И вот его нет. Он лежит в могиле. Я поставил над нею камень. Мастер Ферамен высек надпись: «Путник, остановись! Здесь покоится Дион, юный сын почтенного Сириска, сраженный стрелою безжалостного Эрота»… Сынок мой Дион, сынок мой бедный! Ты погубила его, колдунья! Зачем ты протягиваешь мне это блюдо? Прочь от меня!