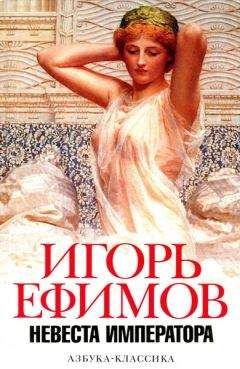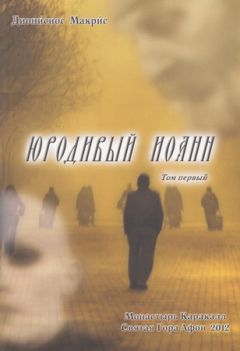Главный вход в наш дом был заколочен с первых дней осады. Мы пользовались только задней калиткой. С улицы вообще здание должно было казаться необитаемым. Слой мусора и грязи наползал с земли на стены все выше и выше.
Однажды мы сидели в сумерках в кухне, вокруг остывающей печки. При свете фитилька одна из служанок читала очередную главу из «Золотого осла». На настоящий смех сил ни у кого уже не хватало. Но все же что-то теплело в груди от этих знакомых историй. Начинало казаться, что где-то есть еще нормальная жизнь, что не все на свете — только грязь, голод, страх и пронизывающие иглы холода.
Вдруг раздался сильный удар в дверь. За ним еще и еще. Служанки бросились прятаться. Я одна вышла в атриум и стала у края пустого бассейна. Если это грабители, то они найдут нас где угодно, уговаривала я себя. И строго приказывала коленям и локтям не трястись.
На десятом, на пятнадцатом ударе дверь рухнула.
Свет факелов ослепил меня.
Все же я успела разглядеть вооруженную толпу на улице, наконечники копий. Один за другим нападавшие начали проскальзывать внутрь дома, растекаться по лестницам. Все делалось как-то молча, деловито. Только с улицы шел сдержанный гул.
Два человека в облачении сенаторов приблизились ко мне.
— Галла Пласидия, — громко сказал один из них, — сенат поручил нам борьбу с изменой. Мы пришли проверить, не укрываются ли изменники в твоем благородном доме.
Он старался говорить твердо и уверенно. Но мне показалось, что он боится толпы за своей спиной не меньше, чем я.
В это время сверху раздался жалобный вопль. Я подняла глаза. Два негодяя тащили по галерее няньку Эльпидию.
— Вот она! Я узнал ее! — вопил один. — Всегда у стен, у ворот! Шныряет, подает сигналы!
Он ухватил несчастную старуху за волосы и поволок по ступеням. Ярость мгновенно залила мою душу, вытеснила страх.
— Немедленно отпусти! — закричала я не своим голосом. — Не то я прикажу забить тебя до смерти горящими головнями!
Прикажу? Да кто меня послушает? Но то ли мой вид, то ли необычность обещанной казни (мы только что прочли про такое у Апулея) возымели действие. Бандиты выпустили няньку, и она спряталась за моей спиной.
— Нам поручено узнать, — сказал второй сенатор, — не имела ли ты сношений с женой бывшего главнокомандующего Стилихона?
«О чем это они? — мелькнуло у меня в голове. — Неужели им донесли о ночном визите Эферия?»
— Я не встречалась с Сереной со дня своего приезда в Рим! — крикнула я вслух.
Толпа вдруг стихла.
— Значит, ты утверждаешь, — сказал первый сенатор, отчетливо отделяя каждое слово, — что тебе неизвестны речи и действия Серены в дни осады?
— Совершенно неизвестны.
— И значит, тебе нечего сказать в ее защиту?
— Ни в защиту, ни в обвинение Серены я не могу сказать ни слова. Повторяю: я не встречалась с ней за последний год ни разу. Даже не знаю, в Риме она еще или нет.
Сенатор повернулся лицом к толпе, поднял руку:
— Вы слышали все! А для тех, кто не слышал, я повторю громче: сестра нашего императора, благородная Галла Пласидия, не нашла ничего сказать в оправдание изменницы Серены!
Толпа испустила ликующий вопль и начала откатываться от дверей. Те разбойники, которые успели просочиться в дом, тоже один за другим выскальзывали наружу. Только второй сенатор задержался, чтобы прошептать мне несколько жалких слов в оправдание.
— Вы должны понять… Чернь требовала крови… Кого-то надо было принести в жертву… А про Серену ходили слухи, что она замышляет тайно открыть ворота врагу… Вина была признана единогласно… Но потом кто-то сказал, что все же она из императорской семьи… Хорошо бы подстраховаться… Вот и решили получить ваше согласие…
— Согласие? На что?
Сенатор попятился и, уже держась за косяк выломанных дверей, крикнул:
— На казнь изменницы!..
Потом исчез.
Наутро пришло известие, что Серена была задушена палачом в собственном доме, под взглядами ворвавшейся толпы. К удивлению черни, это доблестное деяние не испугало осаждавших: петля их костров так же уверенно стягивала город каждую ночь.
А для меня потянулись дни еще более мучительные. К холоду, голоду и страху теперь добавился стыд. Напрасно я уговаривала себя, что мне не по силам было остановить беснующуюся толпу. Они втянули меня в кровавое злодеяние, и теперь мне придется жить с этим позором до конца дней. Прерывистый сон часто приносил одно и то же видение: я на берегу моря, одна, чего-то жду, пытаюсь вспомнить — чего же? Ага, должен появиться корабль и увезти то, что лежит у моих ног. Я стараюсь не смотреть вниз, но в сердце знаю, что там кто-то мертвый. В одну ночь это мог быть ребенок, в другую — актер в звериной маске, в третью — священник из нашей церкви. Любое живое существо в моих ночных кошмарах могло обратиться в труп, и мой мозг лихорадочно начинал искать путей избавиться от него, скрыть, отправить в заморскую даль.
Люди, возникавшие передо мной, пытавшиеся в чем-то убеждать, казались мне порождением реки грязи, которая текла за стенами дома. Я даже не старалась вслушиваться в их слова. Главное было — не дать им заметить, какое отвращение вызывала во мне идущая от них вонь. И когда холодным зимним утром нянька Эльпидия вбежала однажды в мою опочивальню раньше обычного, ей пришлось раз пять повторить важную новость, прежде чем я смогла заставить себя вслушаться в ее слова:
— Отступили? Сняли рогатки?.. Но можно ли этому верить? Наверное, опять пустые слухи… Нет? Разрешено покидать Рим? И возвращаться обратно? Но кто захочет сюда вернуться? Только мертвецы к мертвецам…
Все еще не веря, не надеясь, я тем не менее начала двигаться, как театральная кукла на невидимых шнурах. Меня невозможно было удержать, уговорить дождаться возницу с повозкой или хотя бы носильщиков с паланкином. Я поспешно натянула на себя туники и шали, спустилась в атрий, вышла на улицу. Эльпидия со служанками еле поспевали за мной. Они не успели ни погасить затопленную с утра печку, ни собрать вещи, ни запереть дом. Да и не оставалось ничего к тому моменту в доме, что стоило бы уносить.
Помню голодную, притихшую толпу, с недоверием текущую по улицам.
Помню короткую давку в городских воротах, открытых впервые за четыре месяца, и за ними — заиндевевшую стерню, домики вдалеке, столбики дыма над ними, лошадей под облетевшими деревьями.
Помню человека в доспехах перед собой. Он говорит сердито и настойчиво, а я только любуюсь его чисто выбритым лицом, его блестящими наплечниками, только впитываю запах кожи, идущий от его колчана.
Потом, неизвестно откуда, появляются крытые носилки. Я послушно влезаю в них и сразу припадаю к окошку. Навстречу проплывают всадники, коровьи рога, первые подводы с замороженными мясными тушами, возы с дровами. Серенькое зимнее небо кажется мне бескрайним пристанищем чистоты и света.
И вот — богатая вилла на возвышении.
И почтительная неподвижность часовых у дверей.
И тишина в крытом атриуме.
И немолодой воин идет мне навстречу по ковру. И говорит, вглядываясь в меня светлыми отекшими глазами:
— Двадцать лет тому назад я ломал голову над тем, каким подарком отметить рождение дочери нашего императора. Моя сестра посоветовала белого верблюда — он очень хорош для дальних странствий. Но император Феодосий отдал приказ отправляться в поход, и все смыло пожаром очередной войны. Тем не менее считайте, что белый верблюд за мной. Хотя, боюсь, и без него дальних странствий вам выпало на долю больше, чем нужно.
— Да, — говорю я в ответ. — Да. Душа и тело — впервые не ссорясь — просят об отдыхе.
И бич Господень по имени Аларих вдруг берет мою ладонь и начинает похлопывать по ней и смеяться так, будто я порадовала его доброй вестью или удачной шуткой.
(Галла Пласидия умолкает на время)
НИКОМЕД ФИВАНСКИЙ — О ПЕРЕГОВОРАХ СЕНАТА С АЛАРИХОМ
Только убедившись в том, что городу грозит полная гибель и разорение, и потеряв надежду на помощь императора Гонория, римский сенат согласился вступить в переговоры с Аларихом. Однако в Риме тогда упорно держался слух, будто не сам король визиготов командует осадой, а один из сторонников поверженного Стилихона. И чтобы проверить это, сенат включил в посольство начальника имперских нотариусов, который встречался с Аларихом еще в правление Феодосия Великого и знал его в лицо. Слух оказался ложным, ибо главный нотариус сразу подтвердил своим товарищам по посольству, что перед ними восседает сам король визиготов.
Обсуждение возможных условий мира вскоре зашло в тупик. Послы, хотя и признали тяжелое положение Рима, все же пытались убедить визиготов, что каждый житель города готов взяться за оружие и защищаться, если условия будут слишком тяжелыми. На это Аларих только усмехнулся и сказал: