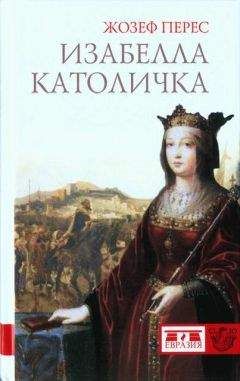Он поднял взгляд, держа в руке кубок. На нем был открытый халат из темно-красной ткани; под развязанными тесемками доходившей до колен сорочки виднелась загорелая грудь. Даже не глядя, я поняла, что на этот раз в кубке вино. Почувствовала богатый аромат риохского, смешанный с запахом воска от канделябра.
Он молча смотрел на меня, столь сосредоточенно, что смолкли даже разговоры собравшихся у дверей.
— Вон, — сказал он, не сводя с меня взгляда. — Все вон.
Беатрис быстро подошла ко мне, чтобы помочь снять халат, но я жестом отстранила ее, и она направилась следом за Инес к двери, где встретилась с немногими пожелавшими остаться упрямцами, которые считали своим правом засвидетельствовать лишение меня девственности, ибо таков был варварский обычай при каждом дворе Европы. Негодующе взмахнув рукой, она отправила их прочь и закрыла за собой дверь.
Мы с Фернандо наконец остались одни.
Мне до сих пор было трудно поверить, что он на самом деле мой муж. Недостаток роста более чем восполнялся осанкой и жизненной силой. Глядя на его выдающийся нос, проницательные глаза, изящный рот и широкий лоб, я отстраненно подумала, что передо мной самый симпатичный мужчина из всех, кого когда-либо встречала. К моему удивлению, сердце мое больше не трепетало и ладони не потели. Я больше не чувствовала прежнего волнения, словно теперь, когда наступил решающий момент, непроницаемое спокойствие одержало верх над смятением, которое мне полагалось испытывать.
Мужчины и женщины занимались подобным с начала времен, и, насколько я знала, никто еще от этого не умер.
— Хочешь? — Он потянулся к стоявшему на буфете кувшину и еще одному кубку. — Предполагалось, что мы вместе выпьем из одного кубка, в постели. Голые.
— Знаю, — слабо улыбнулась я, вновь услышав, от чего он нас избавил. — Но я не люблю вино. У меня от него болит голова.
Кивнув, он отставил кубок в сторону:
— У меня тоже. Я почти не пью, но сегодня мне показалось, что все-таки стоит.
Он замолчал, и руки его неловко повисли, словно он не знал, куда их девать.
— Почему? — спросила я.
— Что — почему? — нахмурился он.
— Почему ты решил, что все же стоит выпить? Нервничаешь?
Вопрос сорвался с моего языка, прежде чем я успела что-либо сообразить, — я сама не знала, почему его задала. Можно подумать, любой мужчина признается, что нервничает в свою брачную ночь!
— Да, — к моему удивлению, спокойно ответил он. — Нервничаю. Никогда еще себя так не чувствовал, даже перед тем, как отправиться в бой.
Он распахнул сорочку, обнажив грудь, блестевшую, словно коричневый атлас, с густыми завитками темных волос в ложбинке между мускулами.
— Сердце стучит, — сказал он, шагая ко мне. — Слышишь?
Я приложила руку к его груди. Он был прав. Я чувствовала, как быстро колотится его сердце.
— Не могу поверить, что ты моя, — прошептал он в тон моим собственным мыслям, глядя мне в глаза: босиком мы были почти одного роста.
Внезапно я вспомнила наши переплетенные пальцы, похожие на отдельные пряди шелка из одного и того же мотка…
— «Tanto monta, monta tanto», — прошептала я.
Он моргнул:
— Что?
— Это наш девиз. Он означает «Мы едины». — Я помолчала. — Не читал? Я включила его в наш брачный договор.
— Да, я читал договор, — с хрипотцой ответил он. — Но, честно говоря, не обратил особого внимания. Меня волновало лишь одно: что в соответствии с ним ты теперь моя.
Взяв мое лицо в руки, он привлек меня к себе.
— Вся моя, — прошептал он, и его губы слились с моими, наполнив меня внезапным чувством, будто внутри меня развернулось целое поле огненных лепестков.
Он подвел меня к кровати и, исследуя языком мое тело, начал шарить пальцами по одежде, развязывая тесемки и ленточки, пока сорочка с шорохом не упала к моим ногам. Кожа моя порозовела от тепла, что исходило от стоявших в комнате жаровен.
Бросив на меня благоговейный взгляд, он прошептал мне на ухо:
— Eres mi luna. Ты моя луна. Такая белая. Такая чистая…
Хотя в глубине души я понимала, что для него я не первая и что ни один мужчина не смог бы так прикасаться к женщине в первый раз, я позволила себе поверить, что оба мы невинны. Я отдалась саду наслаждений, который он во мне посеял, и тело мое напряглось и покрылось потом, отчаянно желая его, пока я не услышала собственный судорожный вздох, охваченная ни с чем не сравнимым чувством.
Я ощутила, как он вошел в меня, и боль, о которой упоминала Беатрис, оказалась столь острой, что у меня перехватило дыхание, но я не подала виду, не желая, чтобы он хоть что-то заметил, лишь крепче обхватила его ногами, требуя продолжать, все быстрее и глубже, несмотря на проливающиеся под нами остатки моей девственности, окрашивавшие простыню в красный цвет.
Потом, когда я лежала с ним в обнимку, разбросав волосы по его груди, он спросил:
— Я был не слишком груб?
Я покачала головой. Он усмехнулся, гладя мое тело — сперва лениво, потом все быстрее и с все большей страстью. Вновь увидев в его глазах желание, я легла на спину, приглашая его в себя. Даже если и вернется боль, убеждала я себя, с каждым разом она наверняка будет чувствоваться все меньше.
А когда он содрогнулся, судорожно выдохнув, и жар его страсти заглушил вспыхнувшую во мне боль, я услышала его голос:
— Подари мне сына, луна моя. Подари мне наследника.
Я считала себя женщиной.
Я представляла, что значит быть женщиной, и старалась в точности этому соответствовать. Но прошли недели после нашей свадьбы, октябрь сменился первым ноябрьским снегом, в каминах трещал огонь, снаружи наш дворец окутывал арктический ветер, а я поняла, что даже не начала ощущать, что такое быть женщиной по-настоящему.
Устроившись среди мехов на скрипучей кровати, мы исследовали царство плоти подобно двум ненасытным детям, которым нечем больше заняться. Могу представить, как ходили по ледяным коридорам слуги и мои фрейлины и сдерживали смешки при звуках из нашей комнаты, где мы предавались наслаждению, забыв обо всем. Естественно, иногда нам требовалось есть, и мы брали пальцами с тарелок кусочки холодной курицы в гранатовом соусе и ломтики сыра на инжире, восторгаясь тем, что никакой деликатес не сравнится с вкусом нашей кожи. Я снова ложилась, радостно смеясь, пока Фернандо прыгал босиком по холодным плитам пола, подкидывал дрова в огонь, а потом ругался и бросался в постель, холодя мое тело ладонями и пальцами ног.
— Перестань! — кричала я, когда он обнимал меня, ощупывая ледяными пальцами.
Но вскоре я уже вновь выгибалась под ним, пока он, вцепившись уже горячими, словно котелок с кипятком, руками мне в волосы, раз за разом наполнял меня своим семенем.
Богоявление пришло и ушло, как и не бывало. Мы устроили праздник в нашем доме, за который заплатили одолженными у Каррильо деньгами, а после мессы обменялись подарками и вновь укрылись в нашем коконе от завывающих бурь, превративших в пустыню всю Кастилию. Ничто не мешало нашему идиллическому уединению, нашему luna de miel;[27] мы довольствовались обществом друг друга, притворяясь, будто весь мир застыл на месте.
Но, естественно, жизнь продолжала идти своим чередом, и в конце концов нам пришлось выбраться из постели, чтобы отправить тщательно составленное письмо моему единокровному брату. Каррильо сообщил нам, что, узнав о свадьбе, Энрике снял осаду с Андалусии и вернулся в Кастилию, проделав весь путь в мрачном молчании, из которого его не удалось вывести даже Вильене. В своем письме, сочиненном в постели в перерывах между любовными утехами, когда оба мы покусывали кончики перьев, проливая друг на друга чернила, я умоляла его понять меня. То был плод первых наших совместных усилий в роли мужа и жены, которым мы провозглашали официальный новый статус и подчеркивали прежнюю верность королю. И все же, отправляя письмо с курьером, я опасалась, что Энрике уже решил отомстить и наши слова или поступки ничего не смогут изменить.
Пока длилась зима, нам ничего не оставалось, кроме как ждать. Какое-то время спустя мы с Фернандо выбрались из постели и начали изучать наши общие интересы. Мы обнаружили, что обоим нравится игра в шахматы и карты и что оба мы страстные наездники. Я с удивлением узнала, что, несмотря на любовь к охоте, он тоже ненавидел бой быков, который считал варварством, и соглашался, что мы никогда не позволим устроить корриду в нашу честь. Чрезмерная роскошь тоже была ему не по душе, поскольку он, как и я, вырос в обедневшем замке, где считали каждую монету. Что важнее, он разделял мой оптимизм, глядя на мир с точки зрения того, чего можно достичь, а не того, что уже потеряно. Он отличался крайней самоуверенностью и не любил, когда ему противоречили, и в те первые дни я с радостью позволяла ему высказываться, глядя, как он расхаживает по комнате, строя планы на наше будущее, пока я, сидя у огня, штопала его чулки и рубашки.