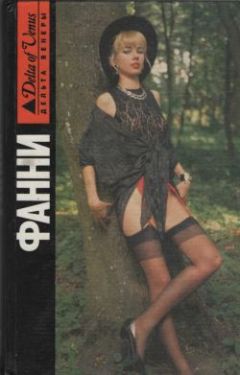Можете себе представить, с каким юмором женщина такого склада, как миссис Коул, отнеслась к его выспренной речи, как легко она подыгрывала ей своими восклицаниями, в которых воедино были смешаны стыд, гнев, сочувствие ко мне и удовлетворение тем, что все кончилось хорошо: в этом последнем, я уверена, она была совершенно искренна. Теперь, когда представлявшееся ею неодолимым возражение против того, чтобы первую ночь я провела в его доме, возражение (скрупулезно рассчитанное на свободу маневра в интриге), построенное на страхах и ужасах девственницы при мысли отправиться в обиталище мужчины и остаться с ним наедине в постели, отпало само собой, она сделала вид, будто, преследуя его выгоду, уговаривает меня отправляться к нему, когда только джентльмену будет угодно, сохраняя при этом видимость того, что я работаю у нее, дабы не потерять шанс найти себе доброго мужа или, во всяком случае, уберечь ее дом от скандала. Звучало это так разумно и так убедительно для мистера Норберта, что он ничегошеньки не понял, как пожилая леди не желает приваживать его к своему дому, того менее смог он вовремя обратить внимание на определенные несоответствия в образе, какой она ему являла, – план ее в высшей степени удовлетворял его своей простотой и перспективами полной свободы действий.
Предоставив мне долгожданный отдых, он встал, и миссис Коул, оговорив с ним все детали, касавшиеся меня, выпроводила его из дома незамеченным. Позже, когда я проснулась, она пришла и воздала должное моему успеху. С обычной для ее поведения сдержанностью и незаинтересованностью она отказалась от какой бы то ни было доли в том, что мною было получено, и наставила меня на столь надежный и простой способ распорядиться своими доходами, превратившимися ныне уже в своего рода маленькое состояние, что даже ребенок лет десяти от роду сумел бы взять заботы о нем в собственные руки.
Вновь я очутилась в положении любовницы-содержанки, вновь б точно установленное время являлась к господину домой, когда тот направлял за мной посыльного, на пути которого я неизменно оказывалась, причем делала это столь ловко, что господин так и не проник в тайну моих отношений с миссис Коул; впрочем, легкость, разбросанность и непрестанная спешка столичной жизни не позволяли ему и в свои-то дела вникать, того меньше – моими заниматься.
Знаете, насколько могу судить по собственному своему опыту, никого не одаривают так щедро, никого не холят так бережно, как – во времена их правления – любовниц тех, кого природа, прежние буйства или возраст менее всего располагают к утехам пола: понимая, что женщина должна быть хоть как-то удовлетворена, они осыпают ее тысячей забот, угождений, подарков, нежностей, признательностей, истощая все возможности изобрести новые средства и способы хоть чем-то подменить главную свою несостоятельность; даже для того, чтобы просто чуть-чуть смягчить положение, на какие только чудачества, на какие утонченные изыски в утехах, на какие ухищрения они не идут, дабы добавить толику жизни увядшим силам, дабы заставить природу служить их чувственности. Только беда их всегда при них, а потому, едва после всех уверток, беспокойств, особых приемов, похотливых поз и будоражащих чувственность движений они достигают-таки краткого мига блаженства, в то же самое время в предмете своей страсти пробуждают они пламя, которое сами не в силах загасить, чем и понуждают бедняжку искать спасения в объятиях другого, способного довершить то, что едва-едва было начато. Они сами порой становятся сводниками для собственных фавориток, сами толкают их на блуд, на поиски более сильного и удовлетворяющего исполнителя. Не стоит забывать, что у женщин, особенно нашего склада, какими бы ни были они добрыми душой и сердцем, есть частичка, которая управляет… нет, точнее – обиталище королевы, которая правит безраздельно и безоговорочно своим подданством по законам собственной мудрости, среди этих законов ни один не блюдется строже, чем тот, что требует во всем, имеющем отношение к естеству, никогда не принимать намерение, пусть и решительное, за деяние.
Мистер Норберт являл собой как раз такой бесславный случай: хотя сам уверял, что чуть ли не влюбился в меня безумно, крайне редко бывал он способен обрести наслаждение и одновременно одарить им меня, даже редкие его удачи требовали долгих и всякий раз новых приготовлений, бывших и утомительными, и воспламеняющими.
Иногда он раздевал меня догола на ковре перед пылающим камином и чуть ли не час созерцал, заставляя принимать самые вычурные позы и делать умопомрачительные фигуры, целуя при этом меня всю с ног до головы, не пропуская ни единой частички моего тела, а самым потаенным и самым чувствительным доставалась львиная доля его дани. Прикосновения и ласки его временами становились такими утонченно похотливыми, такими потрясающе проникновенными, что он едва с ума меня не сводил пламенными своими щекотаниями, когда после всего, после стольких приготовлений и шуму, он обретал недолговечное возбуждение, какое угасало либо в потливой немощи, либо в преждевременном хилом извержении, какое ниспосылалось словно в издевку над моими воспаленными желаниями. Если струйка и попадала куда положено, как же нерешительно, как бесстрастно это проходило! Да разве могли эти несчастные с трудом выжатые несколько тепленьких капель загасить им же самим раздутое бушующее пламя!
Не могу не припомнить один вечер, когда я возвращалась от мистера Норберта домой, возбужденная до пределов, оказавшихся для него недостижимыми. Едва я повернула за угол улицы, меня догнал молодой моряк. На мне тогда было то самое премиленькое, аккуратное и простое платье, какое мне всегда нравилось; возможно, кое-что в походке или манерах выдавало мою возбужденность, какое-то беспокойство, не свойственное тем, у кого мысли ясны, а чувства холодны. Во всяком случае, моряк решил, что я послана ему в награду, а потому, нимало не церемонясь, обхватил меня за шею и поцеловал так крепко, что дух от удовольствия перехватило. Поначалу от такой грубости я бросила на него взгляд, полный гнева и негодования, но, присмотревшись, смягчилась и предалась иным чувствам; парень был высок, по-мужски строен, телом и лицом красив, – так что, не отводя от него взгляда, я кончила тем, что спросила голоском, в котором пробивалась нежность, что, собственно, значит его поступок; на что – все с тою же откровенностью и напористостью, с какой он начал, – моряк предложил продолжить знакомство за стаканом вина. Убеждена, будь я поспокойнее, не окажись доведенной до состояния, когда вся кровь во мне бурлила, не одурманивай меня неудовлетворенные желания, я бы грубые его притязания отвергла сразу и без колебаний. Тогда же, не знаю уж, как получилось, наверное, настойчивые позывы естества, фигура его, вся обстановка или, если хотите, сочетание всего этого вместе да вдобавок еще и проснувшееся любопытство увидеть, чем кончится так начавшееся приключение, новизна ощущения от обращения с тобой, как с обычной уличной девкой, заставили меня ответить молчаливым согласием. Короче, повиновалась я в тот момент отнюдь не голове своей, а потому и потащилась на буксире у воинственного морского волка, который обхватил меня с фамильярностью, будто мы с ним всю жизнь знакомы, и доставил в ближайшую подходящую таверну, где нас провели в крохотную комнатушку по одну сторону коридора. Здесь, не дожидаясь даже, пока слуга принесет заказанное вино, моряк сразу взял меня на абордаж: мигом распахнул платье возле шеи и завладел грудями, с которыми он управился с той точностью сладострастия, что в подобных обстоятельствах делает церемонии куда более утомительными, чем приятными. Однако, устремившись к заветной цели, мы обнаружили, что для этого нет никаких удобств: всю обстановку комнатушки составляли два-три колченогих стула да шатающийся рассохшийся стол. Без лишней суеты моряк прижал меня спиной к стене, поднял на мне юбки, вытащил орудие, каким – краем глаза я успела заметить – можно было похвастаться, и принялся за дело с нетерпеливостью и охотой, явно вызванными долгим постом за время плавания по морям. Понявшая по его началу, какая радость меня ждет, я широко ноги расставила, постаралась позу поудобнее принять, всем, чем могла, помочь ему хотела, кое-что получилось, но особой радости мы все же не испытали. Вмиг сменив диспозицию, он подвел меня к столу, лапищей своей капитанской пригнул к нему мою голову, а другой задрал мне юбки и рубашку, обнаружив голые мои ягодицы и подведя к ним свой слепо и нетерпеливо тыркающийся бушприт; тот под напором протиснулся между ними, и я очень остро почувствовала, как пробирается он вовсе не тем курсом, вовсе не в ту дверь стучится и ломится. Когда же я сказала моряку об этом, он хмыкнул: «Пфу, радость моя, в шторм любая гавань годится». Тем не менее, сменив курс и взяв чуть пониже, он вставил все как положено, да так вонзил, словно поднять меня решил, а потом заработал с такой силой, такой огненный аврал мне устроил, что в том забавном положении, что я пребывала, когда отдалась ему, и до крайности возбужденная, я ощутила начало его конца и сама зашлась в обморочной истоме, выжала из него, сжимаясь в конвульсиях, обильный поток, который, смешавшись с моим, все собою заполонил, и залила целым потоком весь неистовый пожар моих желаний.