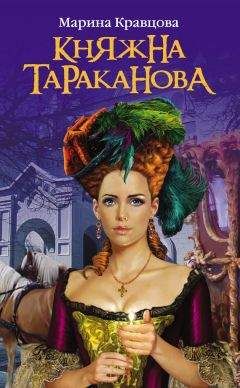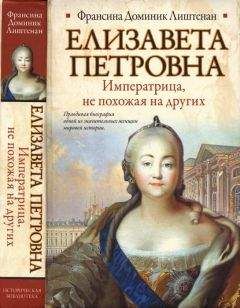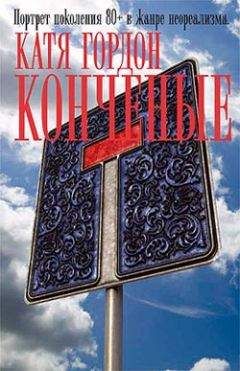Увидев при дворе Екатерины богатырскую фигуру Потемкина, Алексей почувствовал вдруг, что нет у него сейчас злости к сопернику. Нет, потому что великое и светлое царило в душе – они победили! Оба они вложили свою долю в славную победу. И, заметив друг друга, оба поспешили крепко обняться, без слов поняв друг друга.
* * *
…Алина, называвшая себя «дочерью царицы Елизаветы», конечно, совсем не о таком знакомстве с Россией мечтала. Вместо царского дворца – Петропавловская крепость, вместо преклонения восторженного народа – конвой да тюремщик. Ужасно, ужасно, узнице казалось, что и несправедливо… Впрочем, поначалу положение ее было вполне сносным, ее содержали в сухом и светлом помещении, оставили ей служанку, приносили книги… Следователем по делу самозванной принцессы Екатерина назначила фельдмаршала Голицына, которого отозвала когда-то с поста командующего 1-й армией. Голицын был человеком добрым и мягкосердечным, он жалел молодую, красивую и, как оказалось, больную женщину (у Алины объявилась чахотка), но даже он был выведен из себя характером арестантки и отписывал Екатерине в Москву, что пленница нагла, лжива и зла.
Екатерина чувствовала к «бродяжке» какую-то инстинктивную неприязнь, едва ли не ненависть. Было ли это последней каплей, которая переполнила чашу терпения императрицы, измученной несчастьями, выпавшими на долю ее государству? Вскоре Голицыну поступило высочайшее распоряжение переменить условия заключения самозванки на более суровые. Но это не помогло – Алина не собиралась ни в чем раскаиваться. Молчали и захваченные с нею Доманский и Чарномский.
* * *
Императрица жаловалась Алексею Григорьевичу:
– Бродяжка ведет себя наглее некуда! Взгляни, что осмеливается мне писать.
Орлов пробежал глазами поданные листы, усмехнулся.
– О! Требования. «Можно было бы обращаться со мной помилосерднее!»
– И подписывается негодяйка: «Элизабет»!
– Так и не созналась?
– Нет. Она превысила меру моего терпения своей наглостью и ложью.
Орлов призадумался.
– В конце концов, наша красавица и впрямь может не знать, кто она. Мало ли их – родства не помнящих жертв преступной любви… А сказка-то хороша слишком, чтоб вот так просто от нее отступаться. Я навещу ее, государыня.
– Ты?
– Почему бы и нет? Хвалиться не желаю, но я пробудил в ней такой вулкан страстей…
Екатерина поморщилась.
– Только не надо откровений! Я не верю, что она тебе в чем-то признается. Но попытаться не худо.
– Я готов, матушка, хоть сейчас отбыть в Петербург.
Алексей сидел немного в стороне от Екатерины, и она не видела, что он пристально смотрит в ее лицо, которое сегодня от внезапного недомогания было осунувшимся и побледневшим, и причитает про себя: «Умаялась, сердешная, измучилась. Да, нелегок воз – держава Российская. И помочь я тебе не в силах, – сама же более не зовешь, другой у тебя теперь орел! Кто я тебе ныне – друг или враг? Не хочу видеть бродяжку, но ради тебя, государыня, ради тебя лишь готов с сей особой вновь встретиться. Вдруг сумею, помогу тебе, хоть одну заботу сниму с плеч твоих».
* * *
…Четкий стук собственных каблуков в тишине узкого полутемного коридора показался Алехану зловещим, и ему стало еще тягостней. Он не то чтобы оробел, но неприятно сжималось сердце в преддверии невозможной встречи.
– Сюда, ваше сиятельство! – тюремщик зазвенел ключами.
Сопровождавший графа Голицын устало вздохнул.
– Дай Бог, батюшка, чтобы у вас хоть что вышло! Замучила меня упрямица! Я уж к ней и так, и этак… Порой кажется, что и меня с ней вкупе в крепость упекли. Нет, граф, города штурмовать легче было, ей-Богу!
Дверь отворилась перед Алексеем, и ему пришлось низко наклониться, чтобы не удариться при входе головой.
На кровати полулежала женщина в грубой одежде, с заплетенными по-простому в косу длинными черными волосами. Блестящие глаза ее быстро обратились на вошедшего, и несколько секунд она пристально глядела на Орлова… Тюремщик тихохонько вышел, оставив графа наедине с пленницей.
Алексей не успел слова вымолвить, как Алина бросилась на него разъяренной кошкой. Он перехватил тонкие запястья, отвел руки, готовые до ран исцарапать его лицо, оттолкнул арестантку от себя. Она отлетела пушинкой в угол камеры, едва не упала. Взглянула на Орлова ненавидящим взглядом, а потом кинулась на кровать и глухо разрыдалась. Алексей ошеломленно смотрел на нее. Он не мог представить себе ее такой – измученной и исхудавшей, потерявшей немалую долю красоты, трогательно беспомощной и почти обезумевшей. Далеко остались Пиза и Ливорно, поляки и иезуиты, здесь была женщина, слабая, плачущая… Орлов шагнул к Алине. Она отпрянула.
– Не подходите! Ненавижу!
– Выслушайте меня… – начал Алексей по-немецки.
Она вновь вскочила и закричала, затопала ногами.
– Мне? Слушать вас?! Гнусный предатель! Пришли, граф, полюбоваться на дело ваших рук? Смотрите же – я умираю! Довольны теперь?
– Успокойтесь! – громкий голос Алехана покрыл ее истерические выкрики. – Поверьте, что ваши страдания вовсе не доставляют мне удовольствия. Я сожалею… Да, сожалею, что все так вышло. Осмелюсь лишь напомнить, что если я и стал причиной вашего несчастья… то не главной причиной. Вы сами ископали себя яму опасными и грязными интригами! Я или другой, но вы бы упали в эту яму рано или поздно. Непременно!
Алина смотрела на него с изумлением.
– Но вы… – пробормотала она, – вы… клялись мне в любви! Вы обещали… Я верила…
Ее плечи задрожали.
– Предатель!
– А скольким вы обещали, Алин? Как много мужчин верили вам? Скольких вы предали, унизили, втоптали в грязь? Вы и мне говорили о любви. Но сознайтесь хоть сейчас, что питали нежные чувства только лишь к моей эскадре! За эту эскадру вы продали мне себя. Вы никогда меня не любили, как ни клялись…
– Неправда! Я любила вас! – закричала Алина, и что-то трогательно-искреннее прозвучало вдруг в ее срывающемся голосе…
Орлов помолчал.
– Что ж, – продолжил после тягостной тишины, – пусть так. Я виноват перед вами во лжи. В чудовищной лжи, я понимаю это теперь. Но моя ложь – лишь продолжение вашей. Алин! Сколько же можно жить безумными мечтами? Вы молоды, перед вами могут открыться двери новой жизни, вы можете выйти отсюда. Доманский любит вас, он готов на что угодно, лишь бы вы стали его женой. Государыня согласна…
– Доманский – безмозглый идиот! – гневно прервала его Алина. – Да лучше я умру здесь, чем выйду за него замуж!
– Алин! Я пришел вас умолять, – ради вашего же блага! – покайтесь и откровенно ответьте на предлагаемые вам вопросы. Государыня милосердна, – она простит вас.
– Прощать меня? – возмутилась арестантка. – За что?
Орлов глядел на нее с горечью. Он все понял. Перед ним была женщина, которая как-то по-своему, совсем иначе, чем он или Екатерина, понимала, в какую авантюру ее впутали. Алексей почувствовал, что ненависть к этой женщине постепенно исчезает – остается лишь жалость. Щемящая и теперь уже совершенно бесполезная. Он упрямо повторил:
– Умоляю вас. Умоляю! Откройте ваше истинное происхождение. Расскажите откровенно, как вы решились ввязаться в такое невозможное дело.
– Не умоляйте меня! Я не желаю вас слушать! Я уже писала вашей царице и рассказала ей все, что могла.
«Безумная упрямица!» – подумал Орлов.
– Вы сами губите себя, – грустно произнес вслух.
Алина искоса глядела на него. Он стоял перед ней, мрачный и внешне бесстрастный, совершенно незнакомый Орлов, не тот, кем она увлеклась так пылко. И он не мог представить, что творится у нее в сердце. А в этом капризном непостоянном сердце ненависть разгоралась все сильнее, но… Странное дело, Алина чувствовала, как сквозь горячечный жар этой ненависти пробиваются прежние чувства. Ее вдруг безумно потянуло к нему. О, как не похож был сейчас граф Орлов на тех мужчин, что валялись у нее в ногах, целуя кончики туфель! Ему она сама готова была упасть в ноги и закричать: «Спаси меня, забери отсюда, тебе я готова быть даже рабой!»
Она всхлипнула. Подступил жестокий кашель. Алексей увидел, как с уголка побелевших губ стекает на точеный подбородок алая струйка. «Чахотка! – понял он. – Все, она погибла». Вытащив тонкий надушенный платок, Алексей бросился к Алине, но она вновь отпрянула:
– Не прикасайтесь ко мне!
И, обессилев, упала на кровать лицом вниз.
– О, – рыдала она, – как я ненавижу вас! И вы, мой палач, еще смеете читать мне нравоучения, словно занудный кюре!
– Да, – горько усмехнулся Орлов, – проповедник из меня плохой. Но я имею дерзость считать себя политиком. А политика, Алин, – не самое чистое дело. Вы ошиблись, ввязавшись в нее!..
До сих пор разговор шел на немецком языке, но после этих слов Алина длинно выругалась по-итальянски.
– И это говорите мне вы! Политика… Вы, которого я так любила! Чьего ребенка я ношу под сердцем!