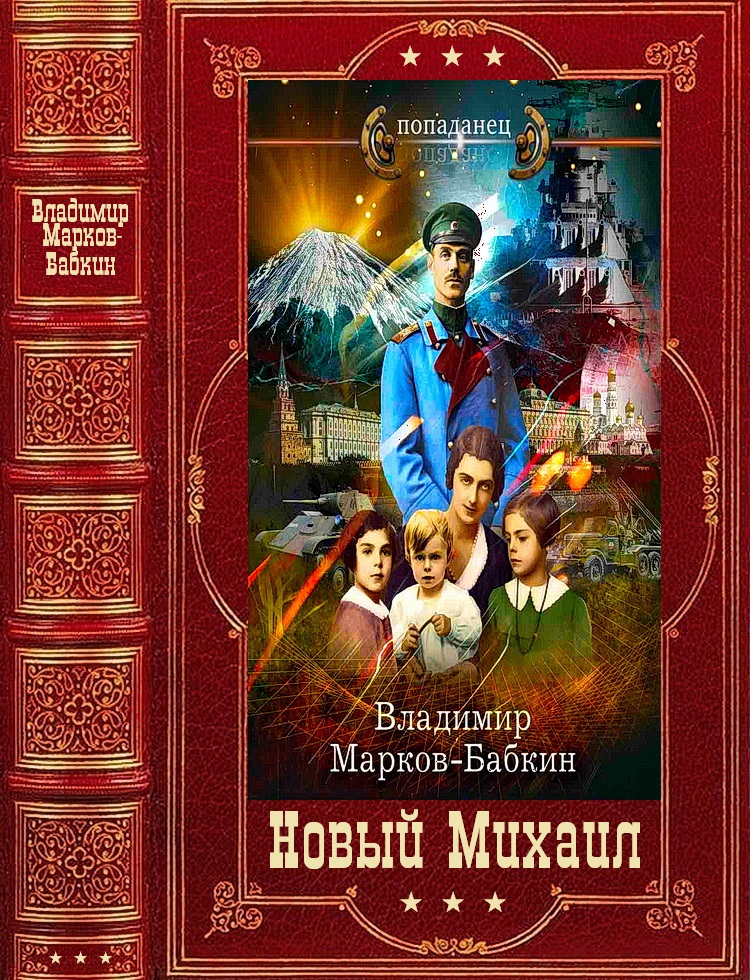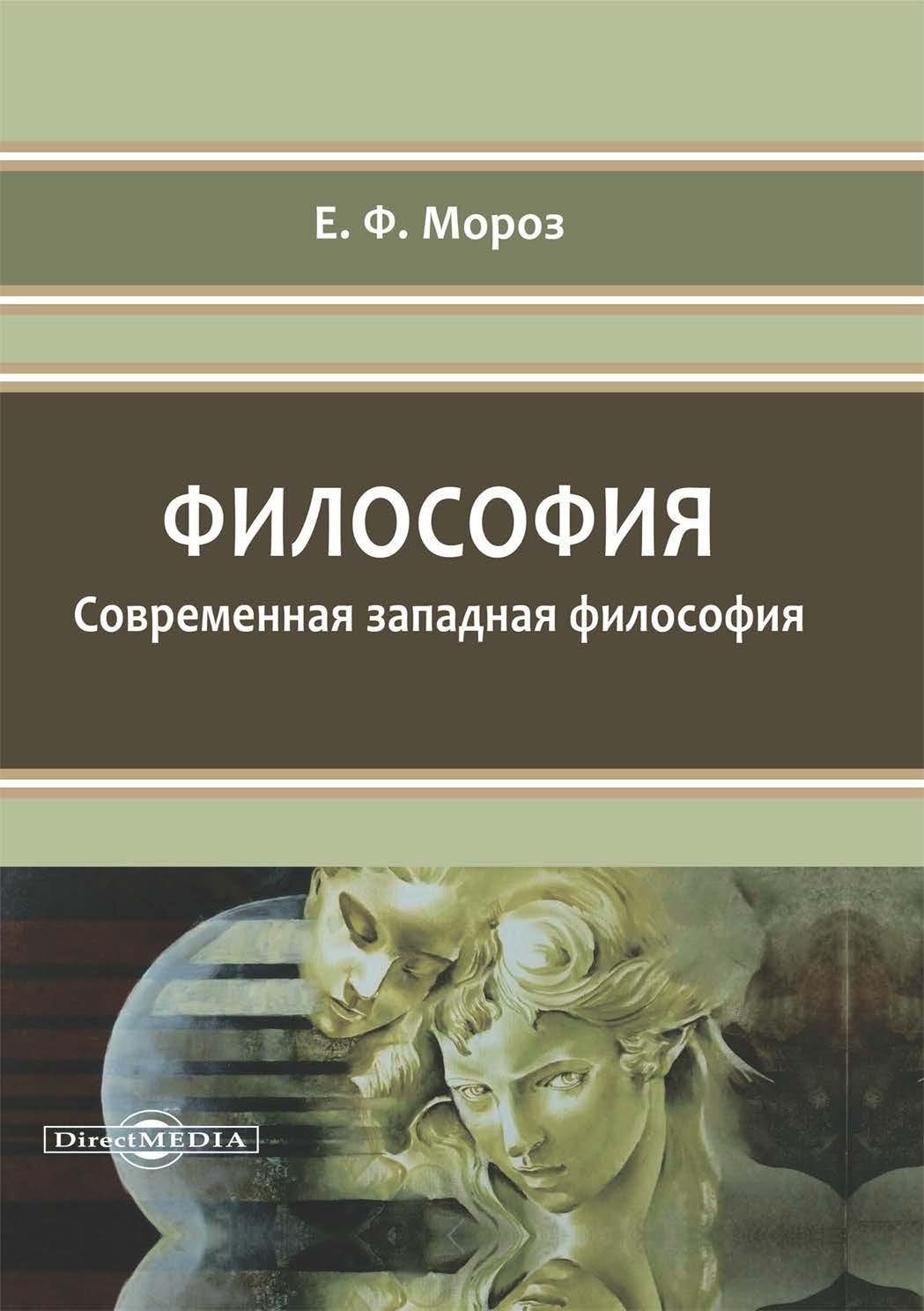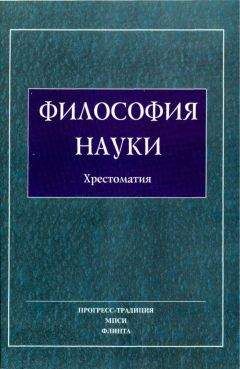сознания, то Барт признает, со ссылкой на Маркса, что и сам он поневоле оказывается современником только симулякров, и, чтобы увидеть реальность, надлежит перестать быть современником самому себе.
Маркс: «Подобно тому как народы древности переживали свою предысторию в воображении, в мифологии, мы, немцы, пережили нашу после-историю в мышлении, в философии. Мы – философские современники настоящего, не будучи его историческими современниками». Точно так же и я лишь воображаемый современник моего собственного настоящего – его языков, утопий, систем (то есть фикций), в общем, его мифологии или философии, но не истории; я живу лишь в пляшущем фантасмагорическом отсвете этой истории [117].
Итак, я живу среди теней истории, среди тех мнимостей, которые часто сам изобретаю, и не могу прекратить их изобретать. Поэтому критическое мышление требует строго отнестись к удовольствию, к тому самому истоку эгоизма. Оно принуждает разомкнуть удовольствие, увидев синхронные процессы в теле, вроде одновременной мигрени и чувственной эмоциональности:
Обычное мое тело существует для меня только в двух формах – мигрени и чувственных удовольствий. Не то и другое – не в каком-то неслыханном масштабе, а напротив, во вполне умеренном, легкодоступном или же излечимом, и в обоих случаях я как бы решаюсь отказаться от образов телесной славы или телесного проклятия. Мигрень – всего лишь первая ступень телесного недуга, а чувственные удовольствия обычно рассматриваются лишь как излишки наслаждения.
Другими словами, мое тело – не герой. Легкость и диффузность недуга и удовольствия (мигрень тоже иной раз ласкает меня) мешают телу превратиться в какое-то чужое, галлюцинаторное месиво, где заложены резкие трансгрессивные стремления; мигрень (слово, которым я довольно неточно называю обычную головную боль) и чувственное удовольствие – это просто два телесных самоощущения, призванные индивидуализировать мое тело, но не окружать его ореолом какой-либо опасности: мое тело мало театрально по отношению к себе [118].
Только так можно критически отнестись к самим понятиям «удовольствия» или «ласки», поставив их в синхронные контексты, освободив от прежнего эмоционального эстетизированного окружения. В конце концов, любой производимый тобой образ, та самая окружающая тебя сдерживающая пленка, созданная тобой же, оказывается твоим телом:
У меня есть тело пищеварения, тело тошноты, тело мигрени и так далее; тело чувственное, мышечное (рука писателя), гуморальное, а в особенности эмотивное – которое то волнуется и движется, то сжимается, ликует или страшится, при том что ничего этого внешне не заметно. С другой стороны, меня пленяет и чарует тело социальное, мифологическое, искусственное (у японских трансвеститов) и проституируемое (у актера). А кроме этих публичных (литературно-письменных) тел, у меня есть еще и два, так сказать, локальных тела – парижское (подвижное, утомленное) и деревенское (покойное, тяжелое) [119].
Итак, актер выставляет свое тело на публику, а значит, торгует им. Все тела оказываются вещами на продажу: ты продаешь очередное тело своим парижским или деревенским удовольствиям.
Но, кроме продажи, возможен и взаимный обмен. Барт не доверяет дружбе до конца: в ней он видит не столько дар, сколько обмен или, как сейчас это называют психологи, созависимые отношения.
Надо принять, что дружба – это плод богатого воображения. Надо синхронизировать чувство и воображение с помощью «топики», то есть общих мест, общих представлений о сути дружбы. Только тогда можно освободиться от этой созависимости и увидеть в друге чудо и дар:
В старинной литературе иногда встречается такое на первый взгляд глупое выражение: религия дружбы (верность, героизм, внесексуальность). Поскольку же от религии нынче осталось одно лишь обаяние обряда, то он любил соблюдать мелкие ритуалы дружбы: отмечать с другом окончание какого-нибудь труда, устранение какой-нибудь заботы. Торжество делает событие более ценным, сообщает ему бесполезную избыточность. <…>
О дружбе надо стараться говорить как о чистой топике: это выводит меня из сферы аффектов, которую не высказать без стеснения, ибо она принадлежит к воображаемому (собственно, по своей стеснительности я и вижу, что где-то совсем близко – «горячо» – и мое воображаемое) [120].
Итак, найти свое место в мире – это следовать системе речевых «мест», «топосов», но критически, не увлекаясь. Надо действовать, синхронизируя свое воображение и свое мышление. Тогда можно, не доверяя удовольствию, получить наслаждение от самой данности бытия, понять всё бытие как дар, который уже не раз нас «уколол».
При этом заблуждения гнетут человечество. Барт говорит сам, что доводит любое критикуемое им сообщение до состояния «малопривлекательной пленки», и сам себя сравнивает с ломтиком картофеля, который в горячем масле сомнений покрывается корочкой и становится приемлем для самого себя, избавившись хоть от части ошибок и поспешных выводов. Науку Барт упрекает в «параноидальности» (постоянном поиске общих закономерностей, тайных механизмов), а искусство – в «фетишизме», что оно выделяет отдельные привилегированные предметы. Он вовсе не отрицает ни науки, ни искусства – просто подтверждает, что в ситуации рынка и всепроникающей идеологии они порождают и некоторые заблуждения.
Так же и в повседневности нас преследует желание как источник ложных образов. Желание плохо не тем, что оно создает в нас порыв, а тем, что вгоняет и дальше в нашу эгоистическую форму.
С ума сойти, как на многое способен отвлекаться человек, которому скучно, боязно или стеснительно работать; работая в деревне (над чем? Увы, над правкой собственной рукописи!), я каждые пять минут придумываю, как бы отвлечься – например, убить муху, подстричь ногти, съесть сливу, сходить по нужде, проверить, по-прежнему ли из крана течет грязная вода (сегодня отключали водопровод), пойти в аптеку, поглядеть в саду, насколько созрели персики, посмотреть программу радио, соорудить подставку для своих бумажек и т. д.: ищу, за кем поволочиться.
(Такой эротический поиск связан с особой страстью, которую Фурье называл Переменчивой, Чередовательной, Порхательной.) [121]
Ссылаясь на писателя XIX века, Барт говорит об общем легкомыслии, стоящем в том числе и за кажущимся серьезным писательским трудом. Писатель может пойти полностью на поводу у желания, и тогда он занят исключительно своим собственным образом (имиджем).
Сам Барт не считал себя таким писателем, потому что не воспринимал себя всерьез; напротив, говорил о себе как идущим на поводу у слов и впечатлений, постоянно иронизировал над собой. Но в литературе как институте постоянно появляется эгоистическая серьезность, совсем не привлекательная для нового поколения:
Наверное, уже не осталось ни одного подростка, у кого бывал бы такой фантазм – быть писателем! Да и с кого же теперь брать пример не в творчестве, а в поведении, в позах, в этой манере ходить по