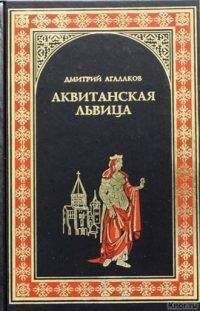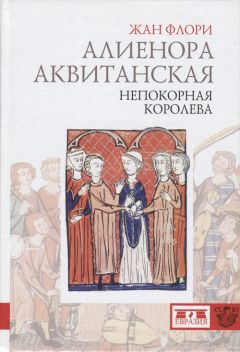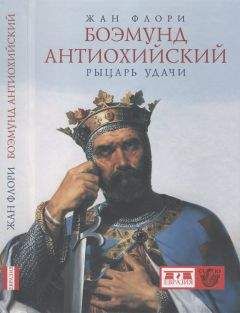— Скажи честно, — попросила она.
— Очень много, — улыбнулся он.
— А что же Констанция?
— Она искренне любит меня и делает вид, что не замечает измен.
Алиенора завораживала любовника красотой линий — кошкой она тонула в этих шкурах, покрывалах и подушках, одну из них зацепив коленями.
— Ты возишь их сюда — в этот дворец?
— И сюда тоже, он — лучший. Для избранных.
Она рассмеялась:
— Наглец! — Алиенора дотянулась и шлепнула его по голой икре. — Какой же ты наглец!
— Больше я никого не приведу сюда, — глядя в ее глаза, сказал он. — Никого и никогда, кроме тебя. А когда ты уедешь, а рано или поздно ты уедешь, здесь будет твоя тень. Твоя светлая тень. И я, загрустив навсегда, стану приезжать сюда один. В этом я могу поклясться тебе сейчас.
— Поцелуй меня, — попросила она.
Он обнял с той нежностью, на которую только был способен. В его сильных руках, привыкших к двуручному мечу и топору, копью и молоту, она чувствовала себя в безопасности. Они целовались до тех пор, пока желание не охватило обоих, и уже не могли разорвать объятий.
— Да, милый, да, мой любимый, — шептала она ему на ухо и оплетала его ногами, льня к нему, врастая в него, еще раз и еще впиваясь губами в его губы…
…Далекий рог протрубил три раза. Раймунд оторвал голову от подушек — это трубил Карл де Мозе. Он давал понять, что хозяину и его гостье пора собираться в обратный путь. Как видно, Пайян де Фе привез какую-то весть из города. Но как не хотелось оставлять ту частичку рая, которую они так неожиданно обрели! Раймунд даже боялся пошевелиться. На его мускулистой загорелой руке лежала голова Алиеноры — ее золотисто-каштановые волосы были убраны в аккуратную прическу, пронизанную золотыми и серебряными нитями. Но эта аккуратная прическа, маленький шедевр, созданный для повседневного появления королевы перед своими подданными, так не шла сейчас к обнаженному телу молодой женщины, утомленному и прекрасному. Из всей одежды — золотая цепочка, перетекавшая по ключице, с распятием, да приглушенно горевшие малиновым и васильковым светом перстни на пальцах неподвижных рук, крепко обхвативших его, чтобы не отпускать подольше, оставить рядом. Как родное древо, крепость, надежду. Так соблазнительна и открыта была она сейчас! И конечно, ей куда больше пошли бы теперь распущенные волосы, но кто их будет заплетать? Этого толком не умела ни сама Алиенора, ни тем более Раймунд Антиохийский. Для такого искусства нужна была целая армия камеристок! Им, любовникам, точно двум ворам, нагрянувшим в дом в отсутствие хозяина, приходилось торопиться. И все для этих вот минут — перед тревожным воем охотничьего рога. Для минут счастья — долгожданного, упоительного, безмерного. Она спала, перебросив правую ногу через него, и по круглому колену и широкому округлому бедру сейчас перетекала полоска уже вечернего света, падавшего в окно комнаты.
Раймунд коснулся ее плеча, тихонько проговорил:
— «В тебе — весь этот мир — отныне и вовек…» — неслышно прошепчу, когда случится утро, и мрак, оставив нас, от губ твоих и век бесшумно поплывет на лодке утлой…
— Чья это канцона? — тихо спросила она.
— Одного трубадура, Артюра Дюмона, он оставил мой двор и уехал искать счастья дальше. Да вот нашел ли, не знаю…
Алиенора сладко потянулась. Ее рука повернулась к нему ладошкой — теперь пальцы Алиеноры тесно обнимали золотые ободки перстней.
— Нам пора возвращаться? — спросила она.
— Пора, милая, — признался он.
Она уткнулась лицом в его плечо — сколько грусти было в этом движении. Время шло — и они были невластны над ним.
— Почему все так? — спросила она. — Если бы не одна кровь, мы могли быть вместе. И хотя ты старше меня на восемь лет, я готова была бы умереть с тобой в один день. И умерла бы.
Он нежно поднял ее голову — глаза Алиеноры блестели. Это были слезы великого счастья и неизбывного горя. Раймунд потянулся к ней, поцеловал ее в губы. Они были влажными и дрожали.
— Ты еще любишь своего Людовика? — спросил Раймунд.
— Нет, — она покачала головой. — И сейчас мне кажется, что не любила никогда…
Три сигнала, выпущенные из охотничьего рога, повторились. На этот раз они прозвучали чуть громче, а значит — и ближе. Любовников торопили.
— Вот теперь точно пора, — сказал Раймунд. — Поторопись, твой туалет куда более сложен, чем мой. А слуг и след простыл…
Алиенора с неохотой поднялась, а он, завороженный статью племянницы, глаз не мог оторвать от ее полной груди, круглых бедер…
— Ты поможешь мне одеться? — с улыбкой спросила она.
— Помогу ли я тебе? — легко встав, откликнулся он. — С наслаждением, моя королева.
Несмотря на то что Алиенора была высокой и сильной женщиной, рядом с ним, светловолосым античным героем, она казался пушинкой. Забыв о ее туалете, он вновь обнял Алиенору и почувствовал, что она готова остаться дольше — всем бедам назло, только бы он держал ее в руках, не отпускал.
— Скажи мне, — положив руки ему на грудь, попросила она, — тот, кто сейчас трубит зорю, посвящен в наши с тобой дела?
— Эти люди скорее умрут, чем выдадут нас.
…Они вернулись в Антиохию вечером. Дядя и племянница, мирно ехавшие рядом друг с другом, о чем-то говорили. У королевы через седло была переброшена туша оленя, у князя — целый веер перепелок. Охотники, да и только! Все это на обратном пути они подобрали в условленном месте.
Людовик хмурился, встречая хозяина княжества и свою жену. Он весь день голову ломал над тем, как ему лучше прославить христианское оружие в борьбе с мусульманами, а князь Антиохийский развлекается, стреляя по перепелам! Ладно, его жена, женщина сколь прекрасная, столь и легкомысленная.
Алиенора первая спрыгнула с коня, подпорхнула к мужу, нежно поцеловала его:
— У нас была славная охота, Людовик! Смотри, какого оленя я подстрелила! Можешь гордиться мной!
«Ах, лиса! — тоже спешиваясь, наблюдая за венценосной парочкой, думал про себя Раймунд. — Эта проведет кого угодно…»
Ему было бы горько и стыдно, если бы великий дух авантюризма не бушевал тайфуном в его душе. И потом — он был влюблен. А это чувство перевешивало все остальные. Карл де Мозе, преданный друг и опытный охотник, уложивший привезенного ими оленя, трубил не зря. Пайян де Фе приехал из города с вестью, что Людовик уже не один раз интересовался, где его жена и князь Раймунд, который должен был лично посвятить крестоносцев в положение, сложившееся за пределами Антиохии.
— Я думал, князь, — сказал Людовик, — что первым делом мы должны обсудить военную кампанию и только потом предаваться удовольствиям? Охотам, скачкам и пирам…
Раймунд пожал плечами:
— Как скажете, ваше величество, но я, в свою очередь, предполагал, что вы захотите отдохнуть с дороги. Или я был не прав?
Он-то как раз был прав. Все бароны, приплывшие с Людовиком на Святую землю, хотели несколько дней передохнуть. За их плечами был двухнедельный переход через Кадмские горы, равный походу Одиссея в подземный Аид, а то и переплюнувший его, затем томительное ожидание в Анталии, где все, горюя, зализывали раны, и недельная качка на кораблях в Средиземном море. Всем владетельным герцогам и графам без исключения хотелось передышки.
И только Людовик, к их общему неудовольствию, рвался в бой. Но короля Франции можно было понять — не на его баронах, а на нем и королеве лежала ответственность за все тяжелейшие страдания, выпавшие на долю крестоносцев.
Закончилось все тем, что Людовика отговорили торопить события. Было решено подождать несколько дней. Так хотелось знатным французским сеньорам мягкой постели, веселых охот, доброго вина и пищи. И конечно, любви: как с теми женщинами, которые выжили после перехода через анатолийские горы, так и с пламенными антиохийками, в которых перемешалось много восточных кровей — и сирийская, и армянская, и греческая.
Людовик поддался общим уговорам и решил отложить военный совет на несколько дней. Но эти дни, начиная с первого, грозили превратиться для короля в пытку. При дворе Раймунда говорили на французском языке, но это был окситанский язык. Язык Аквитании, Прованса, Лангедока, Тулузы. Раймунд и Алиенора, которые купались в родном наречии, так и сыпали провансальскими словечками и шуточками, от которых Людовику становилось плохо. Во-первых, он совсем не понимал, о чем они говорят, и это выводило его из себя, а во-вторых, не составляло великого труда понять, насколько ближе королеве ее дядя Раймунд, чем законный супруг.
Алиенора была просто на седьмом небе от счастья — все то, чего лишили ее в Париже, здесь было предоставлено королеве в полной мере. И Людовик, будучи гостем, никак не мог помешать ее поверхностному счастью. При дворе князя Антиохийского обреталась целая армия трубадуров, менестрелей и жонглеров, выписанных из Аквитании: они бренчали и бренчали на своих виолах и крутах, били в тамбурины, звенели цитрами, кувыркались и смешили народ.