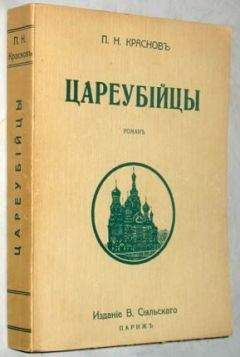Голова Алеши упала на руки. Алеша зарыдал.
— Ну, полноте, Алеша, — сказал, придерживая Алешу за плечи, Болотнев, — успокоитесь…
— В тифу, в бреду, — сквозь тихие всхлипывания продолжал Алеша, — мне все виделись страшные видения… Мои предки наступали на меня, требовали отчета… Весь наш род был военный, офицерский. Князь, в 1814-м году наша гвардия возвращалась из Парижа!.. Наш полк стоял на rue de Babylone, на левом берегу Сены… При Елизавете наша армия возвращалась из Берлина! Наши полки были в Милане, в Вене! И с какими солдатами! Нам сдавали пьяниц, воров, преступников, — розгами, шпицрутенами, казнями мы создавали солдата, чудо-богатыря!.. Теперь с нами — лучший цвет народа Русского!.. Наши чудо-богатыри орлами перелетели через Дунай и Балканские горы… Наши деды побеждали величайших полководцев мира — Карла XII, Фридриха Великого, Наполеона — и теперь с нашим прекрасным солдатом, сломив сопротивление Османа и Сулеймана, — мы не вошли в Константинополь!.. Почему?..
— Не знаю… Не знаю…
Алеша посмотрел на Болотнева сухими воспаленными глазами и с горечью сказал:
— Народ не простит этого Государю… Вы, князь, только говорите, что не знаете, почему мы не вошли во взятый нами, по существу, Константинополь. Нет… Вы знаете, как знаю я, как знает каждый самый последний солдат нестроевой роты… Англия не позволила!.. Дип-пло-мат-ты смешались!.. И Государь сдал. Перед дипломатами. С такими солдатами нам бояться Англии? О!.. какую ненависть к себе в эти дни посеяла в Русских сердцах Англия… Нет, не простит наш народ Государю этого унижения… Английский жид — Биконсфильд — жирным пальцем остановил полет наших орлов к Босфору и Дарданеллам… Жид!.. Понимаете вы — жид!!! И больше ничего, как жид!.. Вы знаете, князь, — вот эти часы, когда я сижу здесь и смотрю на эту исключительную красоту, расстилающуюся передо мною, — это тяжелые часы. Очень тяжелые, жуткие часы. Если Русский гений смог из топи Финских болот, из бедных сосновых и березовых Приневских лесов создать «парадиз земной» — что создал бы он здесь?.. И вот — нельзя. Английский жид не позволяет…
По узкой, усыпанной пестрыми камушками крутой тропинке поднимался от деревни безрукий солдат. Болотцев показал на него глазами Алеше, и тот сказал:
— Вот и Куликов.
— Здравия желаю, ваше сиятельство. Здравия желаю, ваше благородие, — сказал солдат. — Разрешите присесть? Что нового, не слыхать ли чего? Солдатики вот сказывали, будто Великий Князь Главнокомандующий на яхте прибывал в Константинополь, был у султана, кофий изволил пить. Что же это, значит, заместо войны дружба какая с нехристями, с мучителями христианского рода?..
— Садись, Куликов, — сказал Алеша.
Солдат левой рукой неловко достал папиросу и вложил ее в рот. Алеша помог ему закурить.
— Вы, ваше сиятельство, без ножки остались, я, видите, без правой руки, вчистую увольняюсь, как полный инвалид, негож больше для Государевой службы, от их благородия одна тень осталась, вот оно, как обернулась-то нам война!.. Чистые слезы!.. Домой приду… Куда я без руки-то годен?.. И пастуху рука нужна. Разве в огороде заместо чучела поставит благодетель какой — ворон пугать… В деревне тоже понимают… Поди спросят нас: «Ну, а Царьград? Что же это ты руку потерял, а Царьграда не взял?.. Пороха, что ль, не хватило?» Чего я им на это скажу? Англичанка — скажу — нагадила…
— Откуда ты это взял, Куликов?
— Я, ваше благородие, народ видаю. В деревне грек один сказывал. Он в Одессе бывал, по-русскому чисто говорит. Я ему говорю: вот Великий Князь у Султана был, сговаривался, каким манером в Константинополь войтить. Для того и войска перевели и Сан-Стефану. А грек мне отвечает: нельзя этого… Англичанка не позволит. Ейный флот в Вардамелах стоит… Вот она штука-то какая выходит… Я и то вспомнил, отец мне рассказывал, в Севастополе, когда война была, тоже англичанка нам пакостила. Сколько горя, сколько слез через нее… А нельзя, ваше сиятельство, чтоб всем народом навалиться на нее да и пришить к одному месту, чтобы и не трепыхалась?..
— Не знаю, Куликов, не знаю.
— Не знаете, ваше сиятельство… А я вот гляжу: красив Константинополь-то… Вот как красив! Имя тоже гордое, красивое… А не наш… Что же, ваше сиятельство, значит, вся эта суета-то, через Балканы шли, люди мерзли, под Плевной народа, сказывают, положили не приведи Бог сколько, орудия мы ночью брали — все это, выходит, понапрасну. Все, значит, для нее, для англичанки?.. Не ладно это господа придумали. И домой не охота ехать. Что я там без руки-то делать буду? Домой… Пооделись в полку ребята, пообшились, страсть как работали, чтобы в Константинополь идти. Заместо того солдатики сказывали — в Сан-Стефане, Каликрате, Эрекли саперы пристаня строют для посадки на пароходы… Значит и все ни к чему. Ни ваши, ни наши страдания и муки мученские. Англичанки испугались…
Куликов встал, приложился левой рукой к фуражке, поклонился и сказал:
— Прощения прошу, если растревожил я вас, ваше сиятельство… Тошно у меня на душе от всего этого. Русский я… И обида мне через ту англичанку большая.
Куликов пошел вниз. Поднялся за ним и князь.
— Пойдемте потихоньку, Алеша. Сыро становится. Вам нехорошо сыро. Вы вот и вовсе побледнели опять.
— Это, князь, не от сырости, правда, растревожил меня Куликов. Глас народа — глас Божий… Хороший солдат был… Позвольте я вам помогу, вам трудно спускаться.
— Сами-то, Алеша, вы шатаетесь… Обопрусь на вас, а вы как тростинка хлипкая.
— Ничего, я окрепну… Я думаю, князь, народ тогда Государя любит, когда победы, слава, Париж, Берлин, когда красота и сказка кругом царя, величие духа… Смелость… Гордость… дерзновение. Тогда и муки страшные и голод и самые казни ему простят… А вот как станут говорить — англичанки испугался… Нехорошо это, князь, будет… Ах, как нехорошо…
— Не знаю, Алеша, не знаю…
Помогая друг другу, они спустились к самому морю и стали на берегу, где на круглую, пеструю, блестящую гальку набегала синяя волна.
— Алеша, вот вы все меня спрашивали, позвольте и мне вас спросить, — тихо сказал Болотнев. Вы, Алеша, святой человек… Водки не пьете… Женщин, поди, не знаете…
Розовый румянец побежал по бледным щекам Алеши, и еще красивее стало его нежное лицо.
— Простите, Алеша, это очень деликатное… Я приметил, что вы Евангелие каждый день читаете.
— Это мне моя мама, в поход дала. А вы разве не читаете?
— В корпусе слушал батюшкины уроки, да все позабыл. Я ведь ни во что не верю, Алеша… Я философам верил… социалистам… А не Христу… А вот теперь хочу вас, Христова, спросить об одном. Если человек обещал… Не то чтобы слово дал, а просто обещал не видеться, не писать, не говорить с девушкой, которую тот, кому обещано, считал своей невестой, и тот, кому обещано… Я это несвязно говорю, да вы понимаете меня?
— Я понимаю вас, князь.
— Так вот, тот, кому обещано, умер… Убит… То можно или нет нарушить слово? Как по-вашему? По Евангелию?
— В Евангелии сказано — по смерти ни жениться, ни разводиться не будут. Там совсем иная жизнь. Значит — можно. Вы что же, князь, сами хотите жениться?
— А нет, Алеша, — с живостью сказал Болотнев. — Что вы! Куда мне без ноги-то!
— Если человек взаправду любит, то он искалеченного еще больше полюбит, — тихо сказал Алеша.
— Жалость?.. Нет, Алеша, мне жалости не нужно. Это очень тяжело, когда человека жалеют. Тут совсем другое. Та девушка — особая девушка, и я боюсь. Что она погибнет. И вот я думал, что, может быть, если я стану подле нее, буду увещевать ее, говорить с ней — она одумается… Да… Вот и все… Ну, да ото пустяки… Может быть, я и ошибаюсь. Сколько раз в моей жизни я ошибался.
Сзади них солнце спускалось к горам. Нестерпимым пожарным блеском загорелись, заиграли стекла домов Стамбула — будто там, в домах, пылал огонь. Потом огни погасли и прозрачный, лиловый сумрак, нежный и глубокий, стал покрывать фиолетовые Азиатские горы. Над головами Алеши и князя барабанщик ударил повестку к заре.
Тихо плескало темневшее с каждым мгновением море, шевелило мелкую гальку, катило ее к берегу, а потом с легким скрежетом уносило в глубину…
I
— Вера Николаевна, да вы совсем не так кидаете. Смотрите, как я. Положите камушек на большой палец и пустите его, направляя указательным, плоско вдоль воды… Вот так… Раз, два, три… четыре… Четыре рикошета!
— Просто удивительно, как у нас это выходит.
Вера восхищенными глазами смотрела, как юноша, с кем ее только что познакомила Перовская, кидал камни в воду широкого озера.
Вера была в простенькой, нарочно для этого случая купленной блузке, в шерстяной черной юбке, которую она уже и порвать успела, продираясь к берегу через кусты, оцепленные плетями колючей ежевики. Она приехала сюда потаенно, с Перовской, под чужой фамилией, чтобы присутствовать на нелегальном съезде.