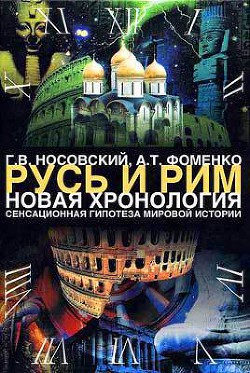вывел для себя, что сила Руси в слабости ее племенных союзов. Это было непривычно и смущало. До сей поры неосознанно, непонимаемо им самим, он стремился к ослаблению племен, к подчинению их верховной власти. А вот Святослав, отец его, напротив, в сильных племенах искал опору своей власти. И все прежние князья, восседавшие на киевском столе, поступали так же, не догадываясь, что это не тот путь.
Владимир с самого начала своего великого княжения понял, что есть другой путь к укреплению державности в отчих землях, и мучительно искал его, иной раз забывая про все и делаясь суров в суждениях, но это от боли душевной, а не от проявляемого им неуважения к стародавним обычаям, как не однажды спокойно ли, во гневе ли говорили владыки небесных скрепов. Волхвы, как бы понимая в нем и не желая угнетения стародавней воли, не поддерживали его. А жаль! Если бы его воля была освящена духовной, от Богов ниспосланной, все повернулось бы иначе. Да и светлые князья ни в чем не желали уступать, каждый, за малым исключением, торил дорогу к верховной власти. За этими помышлениями неизменно стояла невесть чем окармливаемая сила, которая ощущалась в Могуте. Владимир испытывал к нему какой-то непонятный, болезненный интерес. И дело не в том, что во всех направленных противу великокняжения деяниях чувствовалась его рука, но еще и в том, что тот, по слухам, обладал необычайным провидением. Сказывали, что он предугадал гибель Ярополка от мечей находников и даже определил место, где это произойдет. Было в нем что-то удивительное, и Владимир прозревал это, и сам, владея нередко и самому в недоумение и радость, даром предвидения даже и во тьме лет сокрытых событий. И он хотел бы привлечь Могуту на свою сторону и тем ослабить тех, кто противился ему, но из этого ничего не вышло. Могута на все уговорные слова отвечал жестким отказом, а нередко посланники Великого князя предавались смерти у жертвенного костра. И Владимир понял, что более сильного и умного врага на Руси у него нет. Он вдруг вспомнил, как еще в прошлое лето под Купалу, когда цветет папоротник, и девицы плетут венки, старательно оберегая их от сглазу, до слуха Владимира дошли поразившие его слова, брошенные Могутой в земле дреговичей, где он одно время воеводил.
— Не быть тому, к чему клонит Владимир, — сказал Могута. — От веку держалось и закрепилось в умах: сильные племена — сильная Русь. И никому не порушить этого.
Владимир ощутил легкий озноб и точно бы наяву увидел противника, и восхотел прогнать поразившее видение, для чего опустил поводья и поднес руку в тяжелой боевой перчатке к лицу. Видение исчезло. А войско меж тем остановилось. Впереди, перегораживая узкую сумрачную дорогу, громоздились завалы наспех срубленных деревьев: смола на урезах не остыла, и отсвечивала темно-синей белизной.
На завале, на темном смолистом дереве, сидел старый Будимир и прислушивался к шепоту сосен и елей. Ему было грустно, как, впрочем, грустно было и вековечным таежным великанам, они принимали людскую жизнь, если она протекала неопахиваемо злом. В их древесном существе находилось место для осознания этого чувства и, сталкиваясь с ним, они терялись, и тогда в шуме ветвистых крон четко прослеживалась тревога. Ее замечали иные из людей, сознающих себя частью земного мира, малой и слабой, как песчинка, вот подует ветер и унесет, но это не страшно, и там, в глубинном издалече, тоже пробивается, хотя и слабее, чем на отчине, теплое, земное, жизнь дарующее божьей твари. Будимир научился понимать сущее и распознавать себя в нем. Но, может, даже не так, не научился, а это пришло к нему само, без какого-либо усилия с его стороны, как бы врученное старому воину за муки, за понимание бессмысленности пролития людской крови пускай и во благо племенам. Что есть благо, коль скоро выстоялось на человеческом страдании?
Он сидел и слушал, как перешептывались деревья, и беспокойство в нем росло, пока не завладело совершенно его душой. Тогда он взял в руки гусли и запел, оборотившись ликом в ту сторону, откуда уже подходили к завалу воины Владимира. Он пел о Святославе, об его воинской удали, но еще и о том, что это ничего не изменило на Руси, почему она по сию пору находится в душевном неустройстве, не зная, что станется с нею даже завтра. И можно было подумать, что Боги запамятовали про нее, и не помогают ей приблизиться к истине. Да и где она, истина? Небось, сокрыта во тьме незнания, не желая подвинуться к людям. Она хрупка и прозрачна и в чем-то подобна сиянию радуги, близка, да не греет, и только нежные души способны прикоснуться к ней, давным-давно жданной.
Слепой Будимир пел, а юный Изъяслав сидел рядом с ним и со вниманием прислушивался к его голосу, и хотел бы что-то понять из песни дружинного сказителя, но слова не складывались во что-то четкое, ясное. И все же… все же в душе его совершалось удивительное, отчего он как бы поднялся над своим разумением и уже не смог бы сказать, кто он есть на самом деле и почему иной раз на сердце у него вдруг захолонет от страха?.. Изъяслав точно бы возвысился над горестями жизни, в нем нашло отражение что-то сходное с еще не налитым влагой перистым облачком, которое движется по чистому небу, не ведая ни про какую опасность, крылатое что-то… Но вот песня стихла, и в душе у Изъяслава поменялось. Нет, не сразу, конечно. Еще не отойдя от дивного вознесения, Изъяслав увидел у завала чужое войско, но раньше увидел войско незрячий Будимир и спросил, положив на колени гусли:
— Ты здесь, Владимир?
— Да. Я внимал твоей песне, и она не согрела мне душу.
— Почему?
— Ты слишком суров к людям, сказитель.
— Я знаю о них правду. Я знаю правду и о тебе и о тех, кто противится твоему пониманию жизни. Скажи, ты пришел сюда с войском, чтобы пролить русскую кровь?
— Я пришел, чтобы утвердить на земле вятичей свою правду.
— Правда одна, княже, и она не открылась пока ни тебе, ни Могуте. И да помогут вам Боги!
Протянувшееся от Будимира к Владимиру, хрупкое и колеблемое, привычное для него, угадывающему в людях, сказало старому сказителю, что князь недоволен им, не по сердцу пришлись слова его. И Могута, помнится, не принял его душевной муки, обронил хмуро, что де не к месту, старче, слова