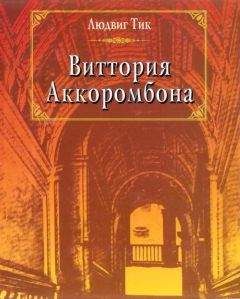— Крепись, мама, — промолвила Виттория, не теряя самообладания, — мы должны научиться управлять тем, что кажется неизбежным. Если я смогла решиться на этот злосчастный брак, раз того требовала необходимость, то и сейчас не согнусь перед насилием. Клевета?! Запятнанная репутация?! Конечно, честь и доброе имя — бесценные сокровища, но враги и лжедрузья загнали нас в такой тупик, что невозможно ни двинуться дальше, ни отступить назад, и я чувствую себя пленницей. Но теперь я не хочу умирать, нет, только не сейчас! Я лишь начинаю узнавать жизнь и надеюсь: судьба будет к нам милостива. Мы должны принять великодушную защиту Браччиано и немедленно отправимся к нему во дворец.
Фарнезе был взбешен, узнав о дерзком поступке Аккоромбони. Он был уверен, что ни герцог, ни запуганная семья не отважатся прибегнуть к такому средству. Он ожидал увидеть у себя двух униженных, молящих о защите женщин, которых собирался облагодетельствовать и потребовать затем от Виттории должную плату.
Браччиано был, разумеется, счастлив видеть возлюбленную в своем дворце и под своей защитой, но он отдавал себе отчет в том, какой опасности подвергнется в том случае, если правительство решится на крайние меры и поведет расследование со всей строгостью. Между тем он пытался поддержать Витторию и обещал, что приложит все силы к тому, чтобы не случилось ничего ужасного.
Судейские не отважились войти в его дворец, но губернатор сам появился у него, чтобы пригласить Витторию — как подозреваемую в убийстве Перетти — на суд кардиналов.
В зале Ватикана собрались судьи. Впереди председатель — кардинал Фарнезе, за ним Карл Борромео и Фердинанд Медичи. Присутствовали и другие кардиналы и епископы, а также несколько писцов и судей курии. Прежде чем начинать сам процесс, решили заслушать обвиняемую и подозреваемых. Рыцарю Карру удалось через протекцию быть допущенным на этот допрос, ибо ему очень хотелось хотя бы увидеть знаменитую Витторию, о которой на разные лады судачил весь Рим.
Все пришли в изумление, когда вместо скорбящей и униженной, как ожидали, в зал гордо вошла женщина в полном блеске своей ослепительной красоты. Она надела самый богатый свой наряд, на шее и в волосах сверкали драгоценные камни. Пораженный Фарнезе вынужден был признать, что никогда еще не видел эту мраморную красавицу столь неотразимой.
— Что мы видим, синьора? — начал Борромео. — Вместо убитой горем вдовы перед нами богато разодетая женщина, будто невеста князя; вместо кающейся Магдалины — гордая Юдифь?{118} Так вы выражаете раскаяние и скорбь? Так вы хотите примириться с гневной тенью вашего супруга?
— Если бы я действительно была преступницей, — твердо ответила Виттория, — то перед вами, называющими себя моими судьями, предстала бы сегодня безутешная вдова в заранее, с тонким расчетом, приготовленных черных одеждах и густой вуали, чтобы вызвать ваше сочувствие и благосклонность. Но испуг и горе так внезапно настигли меня, что я забыла об искусных приготовлениях и охотно украсила себя, ибо сегодня весь мир должен узнать о моей невиновности.
Не дожидаясь приглашения со стороны судей, она села в единственное не занятое в зале кресло.
Один из судей поднялся и громко зачитал обвинение. Он рассказал о бракосочетании молодого Перетти, умолявшего своего доброго дядю позволить ему, подающему надежды, жениться на небогатой, но красивой даме, которую он страстно полюбил. Но Виттория никогда не испытывала к нему благодарности и холодно вела себя с супругом. Она предпочла тихой, уединенной жизни, подобающей племяннице благочестивого кардинала, жизнь, полную развлечений: превратила свой дом в поэтическую академию — место сбора иноземцев и знати, чтобы наслаждаться поэзией, музыкой и пением, а также подозрительными беседами, которые именовались философскими. Синьора Перетти так пренебрегала молодым супругом, а мать потворствовала ее легкомыслию, что бедный юноша гораздо лучше чувствовал себя за стенами дома.
Он часто высказывал друзьям свою обиду на жену. И вот Перетти неожиданно убивают в полночь страшным, предательским образом. Люди давно уже шептались о том, что Виттория стремится избавиться от мужа, чтобы вступить в брак с более знатным синьором. Однажды Перетти уже подвергался смертельной опасности — был ранен известным скандалистом Валентини. С давних пор старший брат обвиняемой, достойный уважения епископ Оттавио, находится в ссоре с сестрой и матерью и почти не бывает у них. Второй брат, Марчелло, — убийца и бандит, — напротив, часто прятался в доме. В ту трагическую ночь именно Марчелло назначил синьору Перетти встречу через доверенное лицо. Это доверенное лицо — Манчини проговорился, что вслед мужу, отправлявшемуся на смерть, молодая супруга послала проклятия. Мать же, донна Юлия, плела заговор более осмотрительно; няня Урсула тоже знала обо всем. Убийцы, по словам Манчини, сбежали, один из них — подданный одного влиятельного господина, которого он, однако, не хочет и не может назвать. Валентини написал, что он пытался убить Перетти потому, что его подкупили. Вероятнее всего, Марчелло является одним из зачинщиков убийства, если не главой заговора, в союзе с сестрой Витторией, поэтому его и безбожную мать можно рассматривать как вероятных убийц.
В зале поднялся шум. Двери неожиданно распахнулись, и, с силой оттолкнув слуг, в помещение гордо вошел высокий, статный человек. Это был герцог Браччиано, представший в своем самом богатом, украшенном драгоценностями княжеском одеянии. Он небрежно поклонился присутствующим.
Виттория покраснела, узнав его, опустила голову и тихо улыбнулась про себя. Неожиданное появление столь знатного лица привело кардиналов в смущение, а один из судей поспешно поднялся, чтобы найти кресло для князя. Но не обнаружив свободного, подошел к Виттории, давая ей понять, чтобы она освободила место для почетного гостя. Женщина, будто не замечая гримасы судьи, продолжала сидеть, так что тот, рассердившись, собрался силой добиться своего. В то же мгновение рядом оказался герцог. Он схватил судью за руку и удержал его. Затем взял маленькую скамеечку для ног, стоявшую в углу, отнес ее на середину зала, снял украшенный драгоценностями плащ, расстелил его на скамейке и сел, не теряя при этом своего достоинства.
Теперь поднялась Виттория и вышла к судьям. Она избегала смотреть на Фарнезе, смущенного, но не отрывающего от нее глаз.
— Жаль, — начала она твердым голосом, — что на этом высоком собрании я не вижу добродетельного Монтальто, которому доверяю, который когда-то любил меня, в чьем присутствии, ободренная его взглядом, я бы чувствовала больше уверенности, чтобы отмести все эти пустые обвинения и опровергнуть клевету. Моя достойная уважения, добродетельная мать, принесшая свою жизнь в жертву любимым детям, которую почитают все друзья и знакомые, она — убийца? Ради какой цели? Разве она пыталась когда-нибудь достичь высокого положения постыдным путем? Вся ее жизнь, проведенная в самоотречении, свидетельствует об обратном. Я имею право напомнить присутствующим о том, как были встречены притязания влиятельного Лудовико Орсини на мою руку. И даже угрозы оскорбленного отказом графа не изменили нашего решения. Что же касается блеска и богатства — то кардинал Монтальто позаботился об этом. Великий, почтенный кардинал Фарнезе уже много лет знает мою добродетельную мать. Могу сказать, не задевая его достоинства, — он всегда был ей настоящим другом и никогда не упускал случая доказать свое уважение и доверие. Пусть он открыто скажет сейчас, заслужила ли Юлия Аккоромбона подобных оскорбительных обвинений? Да, я называю их оскорбительными и подлыми! И пусть высокое собрание простит мне эту резкость, ибо как иначе их можно назвать? Вы правы, я не любила Перетти. Но разве смогут благочестивый, добродетельный кардинал Борромео или высокочтимый Медичи назвать хоть одно достоинство, за которое его можно было полюбить? И разве он любил меня? Разве он был мне верным супругом? Разве он не ранил, не обидел меня смертельно? Но я не хочу обвинять, даже если бы мне пришлось оправдываться за свою измену. А несчастный брат Марчелло — моя незаживающая рана, — если он, как кому-то кажется, был связан с убийцами, если он даже руководил ими, то непонятно, почему от одного его неясного намека в письме Перетти так обезумел и поспешил к назначенному месту. Должно быть, он безоговорочно доверял Марчелло, вероятно, был его сердечным другом, союзником, кто знает, в каких преступных делах. А я, узнавшая, увы, слишком поздно, о том, что Марчелло часто прячется у Перетти в доме, способна была, по мнению обвинителей, руководить подобным заговором против моей чести, благополучия и жизни? Да, я открыто и громко заявляю: я прокляла Перетти, когда он в ту страшную ночь, несмотря на все наши просьбы и предостережения, поспешил уйти, оттолкнув от себя мою почтенную мать, которая, обезумев от горя и страха, пыталась остановить его. Пусть поставят передо мной этого жалкого обманщика Манчини, пусть он повторит, глядя мне в глаза, то страшное обвинение, — я убеждена и утверждаю: этот негодяй не выдержит моего взгляда и не посмеет оклеветать меня еще раз. Пусть пригласят сюда Валентини. Я хочу взглянуть и на него. И тогда, может быть, вместо просьбы о помиловании высокий суд получит выдвинутое уже мной обвинение, которое, боюсь, смутит того, кто чувствует себя сейчас так уверенно и спокойно. Я узнала, что произошло той ночью, когда бедный пьяный Перетти вернулся домой с маскарада раньше, чем собирался. Думаю, та ночь и стала преддверием другой — которую мы все оплакиваем.