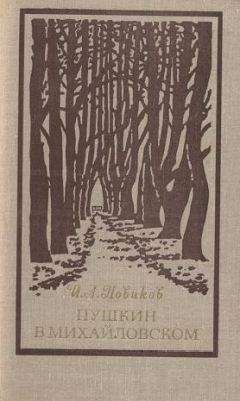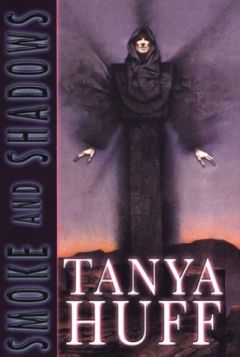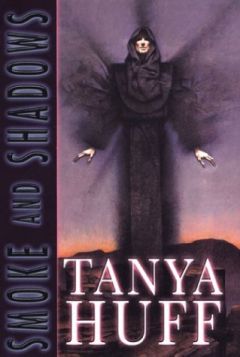— Ну, что до меня, Анна Богдановна, то я вижу что вижу. И неужто всамделе со старою барыней?
— Она не стара, Роза Григорьевна, — уклончиво отвечала Анна Богдановна, — ну никак не стара.
— Он же ведь прост, да, поди, и своя-то наскучила! Вы все не верите мне…
— А Арина-то Родионовна что ж не глядит?
Но когда доходило дело до Арины Родионовны, уж тут- то Роза Григорьевна давала себе полную волю.
Так, слово за слово, они наслаждались беседой. И было бы все тихо да ладно, когда бы к концу не слишком они разъярились: девушки слышали многое, и девушки между собою шептались; дошло и до няни. И с нянею вышло у Розы Григорьевны, как та проводила драгоценную гостью, самое резкое столкновение.
— Ты это что же: и няню порочишь, и барина, и девушек с грязью мешаешь… Срамница сама! Да я тебя выведу на чистую воду, да ты у меня узнаешь, как добрых людей перестирывать!
Роза Григорьевна в ответ пренахально уперлась ладонями в сухие бока и не осталась в долгу. Она громоздила сплетню на сплетню, перемежая все это любезностями по адресу няни, и, наконец, утратила всякую меру и стыд:
— Я все, моя милая, знаю… И ты это знаешь не хуже меня! И, коли до чего дело дойдет, по ниточке все разберу!.. А что до Михайлы Ивановича, то он и на многое мог бы дерзнуть, не скажи! Отчего это Оленька ваша так, например, уже бела, будто господский фарфор? И на кого это Оленька так уж похожа до чрезвычайности! Не на Ольгу ль Сергеевну — барышню? Грех-то какой! Грех-то какой! Ах ты, бесстыдница старая!
Няня заткнула пальцами уши, плюнула на кружевной праздничный фартук домоправительницы и удалилась так резво, как только могла.
Она почти захворала от злости, обиды и оскорбления и несколько дней была так желта — как свеча желтого воска. Оленька плакала, девичья вся присмирела.
Няня меж тем навела свое следствие. У нее давно уж был в подозрении хлеб, но лишь как совсем утвердилась, решила доложить Александру Сергеевичу. Случай ей благоприятствовал.
Пушкин в последние дни писал с особенным напряжением; рабочее возбуждение не покидало его и во сне. Он ставил свечу в изголовье и клал карандаш и бумагу: отдельные фразы, два-три стиха, порою и замысел сцены… Многое блекло при свете, но кое-что и оставалось. Так делал когда-то и царь Петр, а черновые записи эти в бледном свете возникавшего из болот Санкт-Петербурга переписывал начисто знаменитый прадед Пушкина Абрам Ганнибал.
— А у меня нет другого арапа: сам пишу и сам переписываю, — как-то раз над собою пошутил он у Осиповых.
В деревне всегда крепко спалось. Сны были разные: или писал, или рылся в архивной пыли, или скакал на коне в казачьем отряде, или теплились свечи у аналоя, и отливало, мерцая, тусклое золото старых икон, или падал, ведомый Никитой, с узенькой лестницы Ивана Великого, как падал во сне еще в детстве, как низвергался теперь его Гришка Отрепьев… Снова привычное это, повторное сновидение.
Но нынче привиделось особенно странно: будто проснулся, лежит у себя на постели и слышит вдруг шорох и голоса, возню за стеной. Поглядел: стоит лесенка, он поднялся по ступеням и заглянул меж потолком и стеной, и за карнизом увидел шестнадцатый век: толпы народа двигались смутно, пестро, слышна была брань, женские визги, и на коне молодой боярин плетью прокладывал путь себе и коню.
Но скрипнула дверь, и, едва успевший во сне удивиться и крикнуть от изумления, Пушкин проснулся, мгновенно забыв странный свой сон. Няня стояла в дверях и спрашивала, что ему надо.
— Разве я звал тебя?
— Кликал.
— Да ну! Няня, а что это ты стала желта и похудела? Ай нездорова?
— Я-то здорова, соколик мой, а только при этаких темных делах и здоровой, пожалуй, впору глядеть в домовину…
— Что так? Скажи.
— А то, что никак не придумаю, с чего и начать. Коли не будешь сердиться, так расскажу.
И она рассказала, хоть и далеко не все. Пушкин ее слушал суровый.
И дня через два он так отписывал новости брату: «У меня произошла перемена в министерстве: Розу Григорьевну я принужден был выгнать за непристойное поведение и слова, которых не должен я был вынести. А то бы она уморила няню, которая начала от нее худеть. Я велел Розе подать мне счеты. Она показала мне, что за 2 года (1823 и 4) ей ничего не платили (?) и считает по 200 руб. на год, итого 400 рублей. По моему счету ей следует 100 р. Наличных денег у ней 300 р. Из оных 100 выдам ей, а 200 перешлю в Петербург. Узнай и отпиши обстоятельно, сколько именно положено ей благостыни и заплачено ли что-нибудь в эти 2 года. Я нарядил комитет, составленный из Василья, Архипа и старосты. Велел перемерить хлеб и открыл некоторые злоупотребления, т. е. несколько утаенных четвертей. Впрочем, она мерзавка и воровка. Покамест я принял бразды правления».
Так суховато и скупо, по-деловому, описал он этот наезд свой в хозяйство, но, однако же, он и поволновался, осуществляя забытый свой сон: старая Русь перекочевала со страниц его рукописей и действительно ждала-таки совсем наяву за стеной его спальни.
День был солнечный, ясный. Легкий мороз и высокое синее небо. С крыши амбара свисали голубые сосульки, блестя и играя на солнце; редкая капель падала с них на пожелтевший разрыхленный снег; самцы-снегири блистали своей ярко-красной грудью. Пушкин стоял расстегнувшись, в тулупчике, шею окутывал шарф. Наряженный им «комитет» поглядывал на него с удивлением и почтительностью. Ему и самому было так непривычно выступление это в роли хозяина!
Самого гнусного, впрочем, что, распалясь, выдумала Роза Григорьевна, няня, однако, ему не передала: этого и выговорить невозможно! У нее сорвалась с языка одна только фраза:
— Да в те времена Сергей Львович здесь никогда и не бывали!
Пушкин не обратил никакого внимания на непонятные эти слова, а няня похолодела при одной только мысли о том, что сделал бы он с Розой Григорьевной, услышав дикую эту ложь.
Пушкин ждал брата к себе и после святок. «Твои опасенья насчет приезда ко мне вовсе несправедливы. Я не в Шлиссельбурге, а при физической возможности свидания лишить оного двух братьев была бы жестокость без цели…» Но когда Лев не приехал и на масленицу, пришлось только скупо ему написать: «Жалею о строгих мерах, принятых в твоем отношении», — очевидно, родители окончательно его не пустили. Непосредственно к ним Пушкин ни с чем не обращался и даже о случае с Розой Григорьевной сообщал лишь через брата, а двести рублей, удержанные у нее, пересылал в Петербург, не желая ни копейки оставить себе из родительских денег.
Ждал он и Дельвига. «Мочи нет, хочется Дельвига». «Дельвиг, жив ли ты?» — так на большом листе написал и ему самому один этот вопрос.
Дельвиг был жив: его в Петербурге видала живым сама Прасковья Александровна, ездившая туда на несколько дней. Однако, как раз когда он собирался в Михайловское, неожиданно приехал его отец и взял сына в Витебск, где тот и захворал. «На четвертый день приезда моего к своим попадаюсь в руки короткой знакомой твоей, в руки Горячки…», «Я теперь выздоравливаю и собираюсь выехать из Витебска в четверг на Святой неделе, следственно в субботу у тебя буду. Из Петербурга я несколько раз писал тебе: но у меня был человек немного свободно мыслящий. Он не полагал за нужное отправлять мои письма на почту». Как все это было похоже на Дельвига!
Собирался приехать и Кюхельбекер, о чем из Москвы писал Пущин, но Пушкин на это мало надеялся. Он был бы рад и Бестужеву: «Ах! Если б заманить тебя в Михайловское!..» А в то же самое время слал запрос и Рылеев: «Мы с Бестужевым намереваемся летом проведать тебя: будет ли это кстати?» Но все это были пока одни разговоры, и Пушкин частенько вспоминал про себя одну старую народную песенку, подходящую по местному колориту; бывало, они ее распевали со Львом:
Один сижу во компании,
Никого не вижу…
…Во садику, в огороде
Девица гуляла,
Она писаря псковского
Всячески ругала.
Она всячески ругала,
Весьма поносила:
— Ах, глупой псковской писарь,
— В гости ты не ездишь!
— Я бы рад, душа, ходити,
— Да нечем дарити.
Поедем мы, душа Аша,
В Санктпитер гуляти…
Песенка эта была мила именно тем, что через всю ее невнятицу отчетливо проступала бессмысленность собственной одинокой заброшенности… И вдруг из «Санктпитера», куда «псковскому писарю» заказана путь-дорога, приходит толстый пакет — долгожданный: рукопись от Всеволожского!
Пушкин к этому времени уже начал и сам переписывать более поздние свои стихотворения и никак не мог дождаться этой старой тетради, когда-то им приготовленной, еще в Петербурге, к печати. В тот самый день, как она наконец-таки возвратилась к нему, утром он брату писал, почти умоляя: «Перешли же мне проклятую мою рукопись — и давай уничтожать, переписывать и издавать. Как жаль, что тебя со мною не будет!»