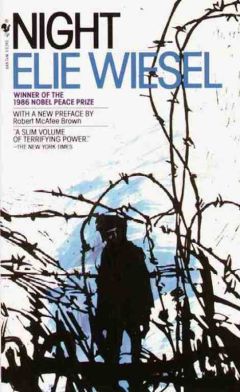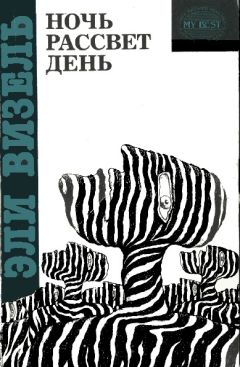Ученики слушают его, не понимая. Старик, сидящий поодаль, начинает глупо хихикать.
Когда ямы выкопаны, двадцать мужчин возвращаются на свои места — к родителям, к женам, к невестам. Убийцы лениво едят и болтают. И вдруг — машина; они вскакивают, вытягиваются перед лейтенантом, который осведомляется, все ли готово. Да, все готово. Элегантный офицер, в перчатках, осматривает место. Удовлетворенный, он поворачивает к общине свое тонкое благородное лицо. Встав на ящик с боеприпасами, он торжественно объявляет своим жертвам, которым кажется, что они попали во власть какого-то дьявольского кошмара:
— Ваш час пробил. Война для вас окончена. Вскоре вы познаете покой, которому ваши оставшиеся в живых братья когда-нибудь позавидуют.
И, бровью не поведя, он предлагает торг: если они не будут сопротивляться, не будут мешать, их будут брать семьями, и они все уйдут, держась за руки; в противном случае он будет вынужден стрелять в толпу, убивая кого попало на месте, и это будет не слишком приятное зрелище.
— Даю вам пять минут, чтобы принять решение.
Мужчины и женщины, все испытавшие старики и почтительные дети, богатые и бедные, ученые и невежды, все смотрят в рот учителю, чей затуманенный взор таинственно и чудесно проясняется.
— Говорю вам, это воля Божия. Но в самом ли деле он этого хочет?
И вдруг — это уже не тот человек. Непонятно, богохульствует ли он, или проповедует веру в союз и верность этому союзу. Непонятно, что им владеет: гнев, отрицающий любовь, или гнев, призывающий любовь. Сияют его глаза под мохнатыми бровями, и в них отражается пылающий Храм:
— Авраам, Ицхак и Яаков, вы, которые, как говорит устное предание, ходите по дорогам страданий нашего народа, свидетельствуйте о нас! Я не прошу вашего заступничества, — я прошу только вашего свидетельства. Особенно твоего, Авраам, особенно твоего. Знай, что каждый член моей общины тебя превзошел. Некоторые здесь принесут в жертву не одного, а пять сыновей. Знай же ты, что Бог Израиля нарушает здесь закон Израиля. Тора запрещает колоть корову и теленка в один и тот же день: и вот, ее закон не применяется к нам, чтящим его. Вот где сынам Израиля отказано в том, что дано животным.
Женщины, как всегда раньше во время его. проповедей в синагоге, плача впивают его слова, смысл которых от них ускользает. Оцепеневшие мужчины пытаются восстановить свою, внезапно парализованную, способность мыслить. Кое-кто из молодых шепотом спрашивает, не смеется ли раввин над ними, над собой и над всем миром.
— Я хочу, чтобы тот из нас, кто выйдет отсюда, — продолжает он еще громче, — видел, слышал и помнил. Я доверяю ему больше, чем патриархам, он осмелится пойти дальше. Я хочу, чтобы он стал хранителем правды и носителем пожара. А если и он должен погибнуть вместе с нами, как мы, я обращаюсь к небу, к ветру, к облакам, к муравьям, что ползают у нас под ногами: пусть они свидетельствуют о нас, быть может, мир не заслужил иных свидетелей.
Учитель озирается вокруг, и во взгляде его презрение к вселенной. Он видит невидимое и содрогается.
Молодые неприметно собираются в кучку и, сохраняя невозмутимый вид, совещаются. Что делать? Сопротивляться? Чем? Ножами, ногтями? А потом? Бежать. Куда? Все равно куда. А родители, а жены, а старики, а больные? Покинуть их, или пойти за ними на алтарь? Мнения разделяются, волнение нарастает, время не ждет.
Учитель говорит, лейтенант начинает сердиться.
— О чем он им рассказывает? — спрашивает он одного из могильщиков.
— Он говорит нам о будущем.
— Вот это чувство юмора! Он меня просто восхищает!
— А меня восхищает его взгляд.
— В самом деле, в нем есть что-то странное.
— У людей, которые должны умереть, всегда такой взгляд, — говорит могильщик.
— А у тех, кто их убивает?
— У них нет взгляда.
Рабби заканчивает свою речь:
— Свидетели, слушайте! Мы не хотим умирать: мы хотим жить и строить во времени и в молитвах царство Мессии. Кто-то этому воспротивился, и этот кто-то Один, и имя Его — Один, и Его вечные тайны неисповедимы для нас и причиняют нам боль. Ничего, братья мои: мы отдаем Ему нашу жизнь и нашу смерть, и желаем, чтобы Он воспользовался ими, как хочет, и чтобы Он был их достоин.
Он умолкает; он сказал то, что хотел сказать. Ему хочется плакать, но он сдерживает слезы. Он стоит неподвижно перед лейтенантом, который хочет знать, принимают ли евреи его предложение.
— Да исполнится воля Божья, — говорит пастырь общины.
Офицер снисходительно качает головой:
— Ошибаешься, старик. Воля не его, а наша.
— Нет, — восклицает раввин, и взгляд его вспыхивает решимостью.
— Нет?
— Вы — только топор; мы сами решим, кому отдать нашу смерть.
Офицер смотрит на него, пожимает плечами; он может не обращать внимания на старика, но ему хочется, чтобы последнее слово осталось за ним.
— Глупец! Ты все еще не понял, что Бог — это мы?
— Никогда! — вопит раввин. — Слышите? Никогда!
Лейтенанту надоели дискуссии. Он отступает на шаг, поворачивается кругом и уже хочет вернуться на свое место командира, как вдруг две могучие руки хватают его. Он чувствует холодное лезвие на затылке. Человек говорит ему:
— Если твои солдаты шевельнутся, ты умрешь первый.
Офицер не теряет хладнокровия:
— У вас нет ни малейших шансов; вокруг этого места тройной кордон. Вам не пройти.
— Посмотрим, — говорит еврей, который его держит.
Он кричит товарищам, чтобы они разоружили солдат. Лейтенант видит, что они колеблются.
— Хорошо, — говорит он. — Вы захватите наше оружие. Что вы с ним будете делать? Какой следующий этап? Куда вы отсюда пойдете? Вернетесь к себе? Может быть, все вместе перейдете через горы в другой город? В какой? И на сколько времени?
Человек с ножом весь в поту. Он знает, что лейтенант прав, что евреям некуда идти, что мир их исключил, отринул, приговорил. Они могут уйти только в смерть. Но пусть хоть палачей своих они увлекут за собой!
— Мы не уйдем никуда, — говорит он. — Мы будем драться. Вашим оружием.
Он неопытен, этот еврей, и не замечает, что солдат делает знак другому, стоящему за его спиной. Он не может его увидеть. Он больше не может его увидеть. Выстрел покончил с мятежом. Пять юношей бросились к упавшему, очередь скосила их, и над долиной снова реет тишина.
Лейтенант поправляет галстук, отряхивает френч и бросает неодобрительный взгляд на свои жертвы: из-за них он потерял драгоценное время. Ему надо скорее вернуться на командный пункт. Два адъютанта передают его приказ. Мизансцена разработана до мелочей. Палачи знают свои роли давно, вечно. Они устанавливают на холмах тяжелые пулеметы и наводят их: одни высчитывают угол обстрела, другие проверяют обоймы. Профессиональная, тщательная работа. Убийцы с совестью — редкость: только евреям вечно удается откуда-то их выкапывать.
Рабби читает Каддиш, и вся община, как один человек, повторяет его, слово за словом. Никто не жалуется, дети не плачут, хотя их глаза широко раскрыты от любопытства или от страха: никто никогда не узнает, от чего.
По сигналу лейтенанта начинается церемония. Шествие открывает глава общины. По должности и по званию он всегда первый — и теперь он тоже заслужил эту честь. Культурный, достойный человек, этот глава общины: даже его твердая, четкая походка внушает уважение. В синагоге он сидел около самого амвона. И на краю ямы он держит голову по-прежнему высоко, выказывая свое презрение палачам: как будто это имеет хоть какое-нибудь значение. Короткий, почти безобидный треск — и он моргает и падает, не сгибая колен. Две его дочери еще стоят. Они красивы, их глаза сверкают умом и юмором, их тела жаждут любви и жертвы, их уста улыбаются нелегкой улыбкой, они стоят неподвижно: доволен ли ты нами, отец? Секунда, отделяющая их от него, кажется бесконечной, кажется вечной. Но все кончается. Вечность тоже.
Окруженный учениками, которые и есть его семья, раввин делает движение, чтобы броситься к яме, потом меняет решение. «Я еще недостаточно видел», — говорит он с яростью.
Идут именитые люди. Двое-трое из них никогда не бывали в синагоге, не хотели смешиваться с еврейской жизнью. Они определяли себя как члены всечеловеческой семьи. «Мы евреи по случайности; мы люди, вот и все». Теперь они стали евреями. И людьми. Потому что есть такое время, когда нельзя быть человеком, не признав себя евреем.
На минуту дело усложняется, когда приходит очередь Товии-портного. Он в этом не виноват. У него слишком много ребят, десять человек. Старший только что отпраздновал бар-мицву. Нельзя их построить как следует: младшие еще нетвердо держатся на ногах. Лейтенант предлагает разделить их на две группы, но Товия, не без оснований, протестует против такой дискриминации: «У меня те же права, что и у остальных». Офицер хочет показать, что справедливость — не просто слово, и приходит на помощь портному: старшие станут вокруг младших и будут держать их за руки — и так они все смогут уйти из этого мира тихо и прилично. После нескольких раздражающих попыток все устраивается, и офицеру становится легче; он говорит себе, что евреи, в конце концов не так злы, как некоторые думают.