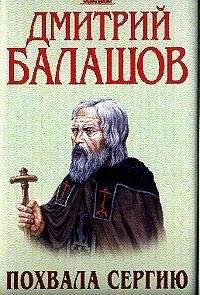Утром допивали и доедали хозяйское угощение, и снова стелилась пустынная дорога среди дубрав в багреце, пурпуре и черлени поздней осени.
Миновали Чорштынский замок на высоком обрыве, с башнею, вздымающейся, словно труба. Дорога опускалась в долины когда-то райской, но опустошенной татарами и с тех пор еще мало заселенной страны, и польские паны, ревниво гордясь своею родиной, рассказывали Ядвиге о драгоценных металлах, что добывают в здешних горах, о богатствах Бахнийских рудников и соляных копей Велички. Указывали на уже появлявшиеся там и сям сады и виноградники.
Краков явился как сказка. Огромный город среди пустынной, почти не заселенной страны, и сразу понравился ей: и Вавель, вознесенный над городом, и островерхие дома, тесно прижатые друг к другу, с затейливою каменною резьбой, и разноязыкая густая толпа горожан в разнообразных одеждах, среди которой, кроме немецких мещан и ремесленников, польских шляхтичей и вездесущих жидов, попадались татарские купцы, армяне, русичи и даже восточные гости с крашенными хною бородами. Города она толком так и не увидала, поскольку ее сразу же повезли в Вавель (Вонвель, как говорилось тогда). Впрочем, встречи начались еще за городом.
На горе Ласоты, в виду Кракова, Ядвигу приветствовала торжественная процессия духовенства и граждан. Городские ратманы в шелковых одеждах, с серебряными поясами, в бархатных колпаках, с кордами у пояса, выстроились шеренгою. За ними подымались знамена цехов: мясники, медники, скорняки, сыромятники и меховщики, сапожники, портные, булочники, шапочники, позументщики, стригачи, цирюльники, сафьянщики, поясники, конские барышники, лучники, ковровщики, панцирники, мундштучники и седельники, золотых дел мастера, живописцы, резчики, красильщики, изготовители клавикордов, вощаники и другие многие — словом, все они были тут. Лес знамен, над ратманами — хоругви, герб и золотые ключи столицы. Ратманы кланялись, хоругви тоже склонялись перед Ядвигой. Ее оглушил гром музыки, трубы, флейты, свирели ударили враз. Нанятые городом фокусники и шуты ходили колесом, вертелись перед нею, звякая бубенцами.
У самых ворот, под звоны колоколов, встречала ее иная процессия — девицы в белых одеждах со свечами в руках. Девицы тоже пели что-то веселое. День тускнел, но тем ярче пылали факелы, свечи, костры на улицах
— по всему Казимержу. Пока добрались до замка, у Ядвиги закружилась голова. Сразу, с ходу, процессией устремились в собор, где ее благословляли и поздравляли.
С удивлением и радостью узнала Ядвига в низкорослом краковском епископе Яна Радлицу, давнего друга своего отца, который учился медицине во Франции, долго был потом при венгерском дворе и в благодарность получил от Людовика Краковское епископство. В церкви им говорить было неудобно, и Ядвига только благодарно прижалась губами к такой знакомой по запаху лекарственных трав старческой руке. Епископ Ян понял и просиял печеным личиком. Невзирая на митру и облачение и даже должность канцлера государства, он и теперь с виду оставался ученым лекарем и ни кем иным и, благословляя дочь своего благодетеля, произнес вполголоса несколько неуставных слов, полностью потонувших в шуме толпы… К ней теснились, заглядывали в глаза. Ядвига уже едва терпела, вынужденно отвечала на поклоны, не различая лиц, и лишь одно запомнилось: бархатные брови и горящий откровенный восхищением взгляд Спытка из Мельштына.
Из собора — в ворота дворца. Стемнело. Ярко горели костры, и факелы бросали на лица неровные мятущиеся отблески. У Ядвиги оставалось теперь только одно желание: добраться до ложа и до туалетной комнаты. Устала так, что даже есть расхотелось, и если бы еще чуть-чуть умедлили, с нею бы случилась истерика. Так прошел и, слава Богу, окончился первый день. Поздно вечером, уже полураздетая, она долго молилась, прося у Господа дать душевные силы и послать друзей, таких, как Ян Радлица, чтобы было ей не так страшно и не так одиноко на своей новой родине.
В каменной зале было холодно. Недобро змеились узоры тяжелого постельного полога. В переплеты окон, забранных дорогим привозным стеклом, отчужденно глядела высокая строгая луна. Ядвига, удерживая дрожь, скорей зарылась в пышную перину, прижала, притиснула к себе прислужницу, что согревала постель госпоже да и заснула ненароком. И так, не отпуская сонную девушку, удерживая пляску зубов, начала постепенно согреваться, а согреваясь, успокаиваться. Уже не показалось так страшно и одиноко, вспомнился сияющий маленький Радлица, лекарь отцов… Она поворочалась, устраиваясь поудобнее, и наконец унырнула в сон.
Ночью снилась ей серебряная, кованая, как большое восточное блюдо, луна и дядя Альбрехт, строгавший доски, которые он почему-то прикладывал к ней, измеряя ее рост, и строгал снова, приговаривая: «Для тебя! Для тебя делаю, солнышко! Чтобы тебе потеплее было!» А потом кто-то добрый голосом господа Бога примолвил ей: «Спи!»
Из утра Ядвигу растормошили прислужницы. Девушки с визгом гонялись друг за другом, бегали по залам, спускались, замирая от страха, по каким-то кривым каменным лестницам. Ядвигу, после сложного утреннего туалета с притираниями, духами, румянами, пудрой, с бесконечным разглядыванием себя в зеркало, фрейлины утащили за собой, знакомиться с замком. Выходили на двор, к поварне, где с заранья пекли и стряпали всяческую снедь на сотни персон, пока не явился замковый капеллан и не начал стыдить, Ядвигу — почтительно, а девиц сердито, за детские шалости, не пристойные сану будущей государыни.
Завтракали в кругу своих девиц. Впрочем, престарелый кардинал Дмитрий явился благословить трапезу и заботливо вопросил: «Хорошо ли госпожа провела ночь?» Дальше пошло уже знакомым побытом. Нахлынули придворные, гости, вельможи двора, и Ядвига впервые ощутила в полной мере, как умно поступила покойная бабушка, обучивши ее польской речи, без которой она была бы тут не более как куклой, бессмысленно хлопающей глазами.
Между тем принятые важными сановниками решения неукоснительно выполнялись. Короновать Ядвигу решено было сразу и в качестве «короля». Так, хотя бы формально, но соблюдалось древнее правило, запрещающее женское престолонаследование. Недоставало короны Болеславов, увезенной Людовиком в Венгрию, но вельможи, после некоторых споров, признали достаточною женскую корону, которой короновались супруги королей, и, по счастью, оставленную Людовиком. Обряд коронации был назначен через несколько дней, в день святой Ядвиги, в воскресенье, пятнадцатого октября.
В этот день все сановники собрались в замок, во главе с кардиналом Дмитрием. Тут был и величественный архиепископ Гнезненский, Бодзанта (тем более величественный, что ему, наконец, едва ли не впервые не приходилось лукавить и выкручиваться, как во время Серадзского съезда), был и епископ краковский, Ян Радлица.
Прочли молитву, окропили святой водою Ядвигу — в лице которой жаркий румянец попеременно сменялся лилейною бледностью, и тогда особенно глубокими казались глаза и особенно темными брови — и процессией двинулись в кафедральный собор. Светские господа и шляхта, духовенство: аббаты в митрах и с посохами, польский с венгерским, высшие придворные чины со знаками власти. Корону должен был бы нести краковский каштелян, скипетр — воевода, державу и меч Болеслава Храброго — иные воеводы. Но все это хранилось о сю пору в венгерской казне, и перед Ядвигою несли только женскую корону польских королев.
Ядвига шла под золотистым балдахином, который держали четверо молодых шляхтичей, в белом одеянии, тунике, далматике, в золотистых сандалиях, в королевской мантии и с распущенными волосами. Некогда великая Византия отсчитывала последние предсмертные десятилетия своей судьбы, но в торжественных одеяниях королей и королев Европы все еще не угасала память парадных одежд византийских императоров и императриц.
Ядвига двигалась, умеряя шаг и опустив очи долу. Свитские дамы поддерживали ее долгий подол, придворные и шляхта со свечами теснились по сторонам, оставляя Ядвиге узкую дорожку к трону, поставленному посередине собора. Оглушительно гремел хор трубачей и флейтистов. Кто-то незримый тронул ее за рукав, напоминая, что надо остановиться у ступеней трона. Важно прошествовав мимо нее, каштелян с воеводою отнесли корону на алтарь собора. Ядвига подняла голову, почти надменно вздернув подбородок: она — король!
Начиналось богослужение. По прочтении Евангелия вдруг и разом лязгнула сталь: шляхта встала, обнажив оружие. У Ядвиги противный холод потек куда-то по животу, мгновением закружилась голова, стало не вздохнуть от жаркого дыхания колыхнувшейся толпы, и святые слова латинской молитвы доходили до нее словно сквозь воду. С новым лязгом сабли упали в ножны. Опомнясь от обморочного ужаса, Ядвига слегка повела головой. Ее не предупредили об этом обычае: праве шляхты с оружием в руках становиться в этот миг на защиту духовных святынь. Архиепископ приближается, спрашивает, желает ли она сохранить свободы и привилегии народа?