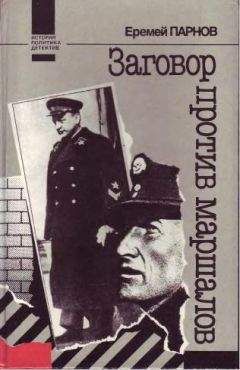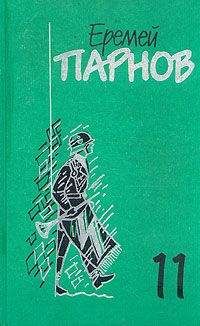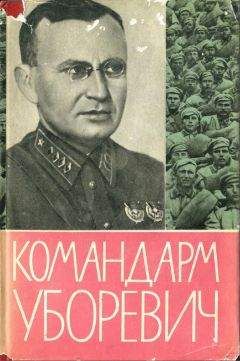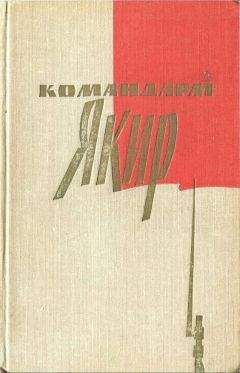— Речь фюрера будет транслироваться по радио на весь мир! — оповестил Дитрих.
Для тех, кому отказали в билете, это было слабое утешение. Каждый мечтал быть причисленным к избранным. Суетное стремление, обостренное тайным воздействием чужой и враждебной среды. Опасный газ ее проникал даже сквозь фильтры неприятия, незаметно смещая акценты. Не у всех, но у многих. Молотом по наковальне била в виски звенящая мысль, что именно здесь, в столице «тысячелетнего рейха», выковывается завтрашний день мира; сверкающий сталью и ужасом, в дыме и пламени. Минуя критические барьеры рассудка, тотальная пропаганда вползала в глаза и уши. Неподконтрольно претерпевала метаморфозы податливая глина инстинкта. За партиями стоят определенные группировки, за движением — аморфная масса. Логика и рассудок — выкрутасы мирового еврейства. Толпой управляет священный инстинкт. Четко организованные пространства цвета: красное, белое, черное. Броскость плаката, сведенного к примитиву. Хлесткая доходчивость лозунга, вбиваемого в голову повсеместно и ежечасно. Газеты, радио, транспаранты, афиши, спичечные коробки и картонки в пивной — всюду одни и те же комбинации ненароком заученных слов. Просочившись внутрь, они и возникали изнутри при случайном взгляде, при беглой ассоциации. Словно непроизвольный отклик души, сдавленной твердеющей коркой. Первозданную глину ожгло огнем. Огненный знак — знак движения. Факельцуги, парады, армейский строй.
«Один рейх, один народ, один вождь!»
И ясен прямой путь, и проста конечная цель, сведенная к тотальной единице: Европа, Мир, Вселенная!
Нет цели светлей и желаннее: В осколки весь мир разобьем! Сегодня мы правим Германией, А завтра всю землю возьмем.
Ангельские личики умытых, прилизанных мальчуганов в коротких штанишках, с кинжалами на бедре. Высокий, солирующий в солнечное небо дискант: «Герма-а-а-а-ни-и-е-е-е-й»...
И слезы умиления на глазах.
И уже берут, берут. Под бой барабанов на трехцветной перевязи. Под грохот оркестров. Под украденную мелодию:
Когда граната рвется, От счастья сердце бьется!..
Шаг, шаг, шаг. Равнение голов. Согласованный взлет барабанных палочек.
Медсестры в форменных пелеринах — строем. Горняки в черных мундирах — шеренгами. Девушки в одинаковых блузах — в ногу.
Флюиды экзальтации атмосферным электричеством растекались по воздуху.
Цепи «трехслойной» охраны: полиция, штурмовые отряды, СС — взяли в кольцо оперный театр. Обезображенный пожаром старый парламент — отсюда до него было метров триста — сиротливо просвечивал арматурой прогоревшего купола. В ту достопамятную ночь Геринг пошутил, что опера важнее рейхстага, и сбылось по слову его. К ремонту так и не приступили. Поговаривали, что гауляйтер столицы Геббельс собирается перенести на новое место памятник Бисмарку вместе с сопровождающими фигурами: дородной Германией, Атласом и Зигфридом, что тяжким млатом ковал неустанно государственный меч.
Охрана стояла по всему маршруту, которым должен был проследовать сопровождаемый мотоциклистами открытый кабриолет вождя. Это была его счастливая выдумка, по сей день вызывавшая восторженный трепет. На тротуарах негде было повернуться. За спинами рослых эсэсовцев стояли сбитые в плотные отряды бойцы трудового фронта, трамвайные кондукторы, немецкие девушки и прочие представители корпораций. Неорганизованная публика, заполнив промежутки, была отжата к стенам домов. Прорваться на Вильгельмштрассе, Унтер ден Линден или ведущую к опере аллею за Бранденбургскими воротами почитали за счастье. Только бы увидетьего, хоть одним глазком! Бросить букет, выкрикнуть здравицу. Находились и простаки, чаявшие вручить прошение. Бывали случаи, когда какой-нибудь истеричке с цветочками удавалось пролезть через оцепление. Один старик даже выскочил на дорогу и сунул- таки письмо бдительному адъютанту. Эпизод попал в кинохронику. Весь рейх пришел в умиление, хотя кое- кому крепко надавали по шее. Словом, незапланированные инциденты были нежелательны. Агенты в штатском нервно поглядывали по сторонам.
«Каждому свое». Старый девиз прусского ордена Черного Орла незримо витал и над бывшим Королевским театром. Проверка документов следовала на каждом шагу. Режимный порядок включал в себя неукоснительную регламентацию.
За полчаса до начала действа театральный зал заполнили депутаты и гости. Видные промышленники, чиновники министерств и партийные функционеры заняли кресла в партере. Правое крыло первого яруса заполнили генералы и адмиралы. Все явились в парадной форме и при полных регалиях. Депутаты в подавляющем большинстве тоже были в мундирах различных ведомств. Преобладали коричневые рубашки штурмовиков и черные с серебром френчи эсэсовцев. С выборами было покончено. Нынешние законодатели империи назначались приказом фюрера и получали жалованье из партийной кассы.
Дипломатический корпус расположился в ложах бельэтажа. В верхние ярусы пропускали по гостевым билетам. Там же находилась и иностранная пресса. Почти все места, отведенные дипломатам, были заняты. Отсутствие послов Франции, Англии, Советского Союза и Польши сразу бросалось в глаза. Чехословацкий посланник Войтех Мастный, однако, на обструкцию не решился.
На сцене, где распластала длинные крылья птица с крючковатым крестом, возвышались правительственные скамьи.
Предгрозовое затишье пронзил визгливый возглас: «Фюрер!» Из оркестровой ямы грянул марш. Грохот откидных сидений и стук каблуков слились с барабанным боем. Рейхстаг приветствовал Гитлера громом Вотана. Под рев троекратного «хайль!» сопровождаемый Гессом и Герингом, он пересек сцену; повернувшись к залу, вскинул руку к плечу. На нем были сапоги, подпоясанную солдатским ремнем блузу штурмовика скромно украшал «Железный крест».
Когда зал несколько приутих, фюрер, раскланиваясь и пожимая руки, деликатно опустился на крайнее место в первом ряду.
Тучный Геринг молодцевато взбежал на самый верх и плюхнулся в тронное кресло.
Справа от фюрера сидел президент национал-социалистской ассоциации правоведов Франк, за ним — Нейрат, министр юстиции Гюртнер и Геббельс. Стиснув виски, министр пропаганды вчитывался в речь фюрера. Шахт и прочие члены кабинета расположились в следующем ряду, а у подножья трибуны изготовились к записи стенографистки и референты во главе с Дитрихом. Перед ним тоже лежала машинописная копия речи. В его задачу входило следить за возможными изменениями. Ни одно слово, ни единая пауза не должны были пропасть втуне.
Из зала жадно следили за малейшими перипетиями пантомимы. Взгляды, кивки, движения губ — все вызывало жгучий интерес. Словно приоткрывались таинственные покровы, и можно было что-то угадать, вычислить, прочитать по лицу. Завораживало ощущение приобщенности к непостижимой магии власти.
Угадав момент кульминации, Геринг спустился с Олимпа и открыл внеочередное заседание рейхстага.
— Мой фюрер! Я приветствую вас в этих священных стенах от имени германского народа! — провозгласил он, вызвав новый прилив восторга.
Речь началась сравнительно спокойно. Поправив галстук, заколотый партийным значком, Гитлер скучающим тоном повторил уже известный всем меморандум. Несмотря на хорошую акустику, его скрежещущий голос то возвышался, то падал до едва различимого шепота. Все развивалось по отработанному сценарию. Гортанный скрежет постепенно усилился, окреп, движения обрели порывистость. Бурно жестикулируя правой рукой, оратор принялся загибать пальцы. Их явно не хватало для подсчета чужих прегрешений и собственных обид. Пришлось пустить в дело другую руку. Теперь он хватался за голову, горестно раскачиваясь на трибуне, словно на палубе тонущего корабля. Судорожно сжав кулаки, метал угрозы, пока неопределенные.
Первые упоминания западных демократий, еврейства и международного коммунизма высекли искры праведного негодования. Срываясь на крик и впадая в неистовство, фюрер буквально гипнотизировал замерших слушателей. Казалось, между ним и аудиторией натянуты токопроводные жилы. Посылая будирующий сигнал, он как бы заранее предугадывал отклик. Резкие переходы вызывали внезапный хаос, приостановку дыхания, когда обескровленный мозг, не понимая слов, дрожит от заряда ненависти. В нужный момент, как на арене с хищниками, изготовившимися к прыжку, следовал громкий хлопок бича. Враг назван по имени, эпохальные задачи определены. Лозунг, ставший неотъемлемой субстанцией естества, воспринимался как откровение. Перекрывая шквал оваций, оратор давал полный выход эмоциям. Он гримасничал, буйствовал, топал, сотрясая микрофоны, и брызгал слюной. Словно шаман или медиум, которым завладели злобные духи. Казалось, вот-вот начнется припадок падучей с пеной и закатыванием глаз.