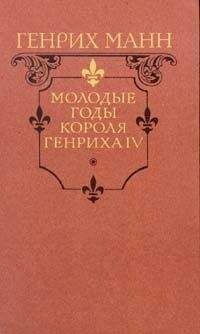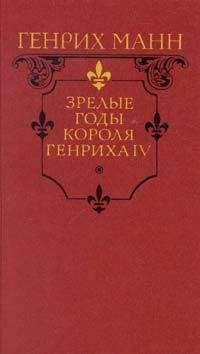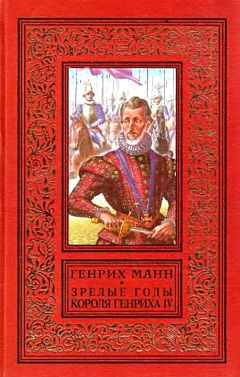— А теперь можете кричать сколько угодно. Я убедился, что снаружи ничего не слышно. Гнусное преступление, такое же, как они сами, — заявил протестант с глубокой убежденностью. И так как его господин безмолвствовал и стоял недвижимо, точно оцепенев, Д’Арманьяк добавил: — Мы бы этого не сделали. Такая красивая барышня, такая ласковая, людям добра хотела. Я знаю одного пастора, который втайне наставлял ее. Она бы перешла в истинную веру…
— Тебе известно ее имя?
— Нет. Может быть, Катрина, может быть, Флеретта. Бедная дворяночка, как я — бедный дворянин.
«Я имени ее не знал и спрашивать о нем теперь не смею. Выплачу и скорбь и ярость в себе самом, и пусть ни капли не выльется наружу. Она погибла за меня, из любви ко мне погибла. Что я обещал еще нынче утром королеве Наваррской — моей жене? Отправиться к войску, во Фландрию. И уже забыл об этом».
Вслух он сказал: — Сегодня же мы едем во Фландрию.
— Вот это правильные слова, сир. В бою я могу сам напасть, могу и убежать. Здесь нет. А в коридоре наткнешься на кусок мешковины — должен через него перешагнуть и молча идти дальше.
Д’Арманьяк говорил еще что-то, приготовляя деревянную лохань, в которой Генрих обычно купался. Когда тот начал раздеваться, выпал свернутый лист бумаги. Он-то и зашелестел у него на груди. Этот листок дала ему Марго: на нем — святой, который охранит его; посмотрим, кто же именно.
Там оказалось изображение человеческого тела после вскрытия — листок из анатомического атласа. Каждый орган был обозначен на полях латинским названием, написанным рукою ученой принцессы, и ею же пририсован маленький кинжальчик, острие которого направлено на вскрытое тело с точным знанием соответствующего места, названного также по-латыни.
Таково было мнение принцессы Валуа. И она тоже хотела предостеречь Генриха. «А если бы я знал это раньше? Выхватил бы я кинжал прежде Гиза?» — Нет, — вслух ответил Генрих самому себе. Слуга удивленно посмотрел на него.
И вот ей приснился сон.
В этом сне Марго была самой госпожой Венерой и в виде мраморной статуи охраняла вход в лабиринт из высоких кустарников, прохладная тень которых падала на ее белую спину: она явственно это ощущала, ибо мрамор был наделен чувствительностью и в нем обитало сознание. Она знала, что позади нее, справа и слева от беседки, стоят два воина, готовые убить друг друга из-за ее благосклонности; но ни один из них не приподнял хотя бы на дюйм свой обнаженный меч, так как оба, подобно ей, были статуями, замкнуты в каменную оболочку и прикованы к пьедесталу. Между тем достаточно было ее мысли, и тот, кого бы она отвергла, упал бы и разбился.
Она созерцала своими пустыми глазами пейзаж, где все: серебрящаяся река, блистающие берега, дворцы и другие статуи — смотрело только на нее, госпожу Венеру. Повсюду вместо людей стояли статуи, и они говорили, не издавая ни единого звука. То, что будет, от тебя зависит. Решайся, пока не наступила ночь. Еще озаряет тебя с высоты божественное солнце, разогревая твои гладкие бедра, и проникает в тебя так, что в тебе даже начинает биться сердце. Вместе с уходящим, остывающим днем утратишь и ты свое тепло, свою жизнь. Мрак пробудит черные силы, и свершится это чудовищное злодеяние, которого ты не хотела. Ты была лишь суетна, госпожа Венера, — не тепла, не холодна и не решительна, — ибо твои чувства вялы и сознание слабо. — Решайся! Решайся! — воскликнули вдруг все статуи, но уже не беззвучно, а словно чирикая, и довольно пронзительно чирикая, как те птички «с островов».
Вдруг все стихло, и наступила некая пустота — и в созданиях и в сознании. Вселенная как бы запнулась, и в тишине этой всеобщей и грозной запинки прозвучал неслыханный дотоле голос, мощный, но глохнущий в необъятных далях пространства. Марго, пришлось собрать во сне все свои силы и думать четче, чем она когда-либо думала, бодрствуя. Тогда она, наконец, узнала лик событий: перед ней была лоджия, расположенная в середине большого дворца, и там стоял бог. Он ждал. Вначале он не говорил, ибо предоставил ей возможность опомниться, чтобы она не умерла, узрев его. Он имел образ статуи, одежда на нем лежала ровными древними складками, дул сильный ветер, но он не шевелил их.
Лоджия тянулась вдоль фасада Лувра, хотя в действительности никакой лоджии там не было. Вместе с тем знакомое здание заслонялось прообразом дворца, который мы всю жизнь таинственно несем в себе; вспоминаем о нем, как о чем-то виденном нами в нашем самом первом, самом прекрасном путешествии, и чего никогда не увидим своими глазами; да его и не найдешь нигде. Здесь же он возник, блистая непреходящим великолепием и творениями великих мастеров, и назывался Синай. Таково было его имя. А посредине каменной глыбой дыбится бог, он не выше среднего роста — но вот он поднимает веки — душа моя блаженно трепещет, и мне хочется воскликнуть: «Да, господи!», — хотя я еще не слышала, в чем его воля. Но эту волю я знаю, и она говорит мне: не убий. Шевельнулась его короткая, курчавая, черная, как смоль, борода. К его губам приливает кровь, они становятся темно-алыми, и он окликает меня. «Принцесса Валуа!» — зовет господь. Я вздрагиваю, я не в силах отвечать от страха, ибо позволила себе увидеть во сне, будто я госпожа Венера. То было лишь наваждение. И только вот это — действительность, только это — святая правда. «Мадам Маргарита», — зовет господь. — Да, господи!
Так она отозвалась. Правда, это не был ее обычный, низкий и звучный голос: он перешел к богу, и это он говорил ее собственным голосом, но гораздо более мощным. Она же только лепетала перед богом. Но бог услышал ее и принял ее ответ. И чтобы она хорошенько его поняла, он сказал это по-гречески. Он по-гречески сказал ей:
— Не убий!
И она сейчас же проснулась, сейчас же оделась и поспешила к матери. Королева. Наваррская прихватила с собою стражу, чтобы, если понадобится, ворваться силой. Однако Марго впустили беспрепятственно, и она тут же поняла, почему: у мадам Екатерины находился Карл Девятый, и он был взбешен. Он бранился и клялся, что король здесь он и он будет повелевать, а не заговорщики, которые сходятся в тайных подземельях.
Его рев раздражал мадам Екатерину, которой необходимо было кое-что обдумать. Кроме того, она не чувствовала себя в безопасности; Марго больше чем кто-либо могла это прочесть по ее лицу, неподвижному, как маска. Мать приветливо встретила свою дорогую девочку и указала ей на ее излюбленную скамейку. Какой бы там Марго ни была, но она оставалась прежде всего маменькиной дочкой и больше всего на свете любила посиживать на этой скамеечке, возле старухиной юбки, запустив в волосы обе руки и читая огромные, переплетенные в кожу фолианты. Обычно она наваливала их себе на колени по нескольку штук зараз. Она и сейчас взяла по привычке книги со стола, принялась даже перелистывать их, но взор ее блуждал, она поглядывала то на брата, то на мать.
Карл Девятый был поражен, что его бессвязная брань и крики почему-то не производят решительно никакого впечатления на старуху и она лишь молча наблюдает за ним. Тогда он решил показать себя еще более твердым и грозным. Он вытянул шею, его рыжеватые усы опустились, и он устрашающе потряс руками — даже не руками, а кулаками, он стиснул кулаки. При этом он исподтишка следил за матерью, стараясь понять, какими бедами она еще ему грозит.
— Ты хорошо спала, матушка? — спросил он.
— Твой праздник был слишком шумным, мой сын.
— И все-таки ты поднялась весьма рано, а с тобой и еще кое-кто, в частности, мой брат д’Анжу. Я все знаю. Вы замышляете коварные планы против меня, против государства, иначе вы бы не совещались в таком гнусном месте: посмотреть сверху — прямо преисподняя.
— Это только так кажется, сын мой, если стоишь на стремянке.
— Значит, ты не отрицаешь этого, матушка, и правильно делаешь, ибо лицо, которое вас там застало, готово все повторить в твоем присутствии.
— Едва ли.
А сыну послышалось: «Ты дурак». И дочь поняла: ей не жить. Марго склонилась над книгой, Карлом овладел новый приступ ярости. Он прикажет немедленно арестовать своего брата д’Анжу, кричал он. Родная мать покушается на его жизнь и намерена возвести на престол его брата. — А я призову на помощь моих протестантов! Теперь я буду править, опираясь только на господина адмирала Колиньи! — уже совсем по-мальчишески заорал он и тут же ужаснулся собственной дерзости. То, что последовало, отвечало его худшим опасениям: мать заплакала. Мадам Екатерина любила во всем соблюдать постепенность. Сначала она помахала короткими ручками, и ее крупное, тяжелое лицо понемногу уподобилось невинному личику горько обиженной девочки. Потом она закрыла его пальчиками, однако, высматривая между ними, внимательно следила за всем происходящим и при этом скулила и взвизгивала. Все выше и пронзительнее скулила она, но по ее пальцам не стекало ни единой слезинки. Мадам Екатерина научилась притворяться чрезвычайно убедительно, только подделывать слезы она не умела. Карл заметил лишь то, что ей удалось. Марго видела остальное.