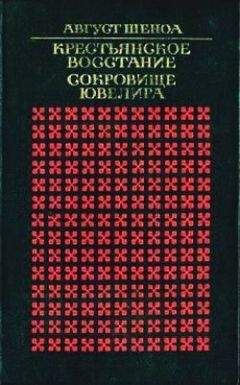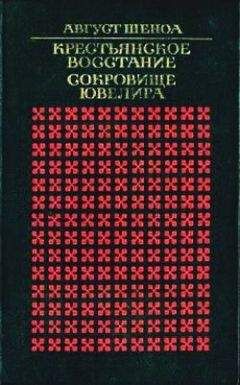– Пора, господар, люди оседлали коней. Приказано переправиться через Саву и двинуться к Одру в лагерь бана.
– Хорошо, Радак. Спасибо!
Радак ушел, а Павел, поцеловав невесту, поспешил к своему отряду.
Девушка подошла к деревянной ограде, провожая милого глазами. Прижала пылающее лицо к столбу да так и впилась горящим взглядом в красавца воина. На углу Павел обернулся, чтобы еще раз проститься с девушкой. Она кивнула ему несколько раз в ответ, присела на стоявшую перед домом скамью и взялась за вышивание. Странно было у нее на душе. Она то вышивала, то, оторвавшись от работы, смотрела куда-то вдаль. Возможно ли, неужели она в самом деле выйдет за Павла? И она проводила рукой по лбу, как бы желая удостовериться, что не спит. Нет, это не сон! О боже мой! Что значат все перенесенные муки, все пролитые слезы рядом с одной только мыслью: она – жена Павла! В глазах ее засиял необычайный свет, на сердце легла сладкая истома, кровь ударила в голову, работа упала на колени. В помутившемся сознании девушки точно живые вставали картины: вот она в саду Павлова замка. Светит солнце, цветут цветы, громко поют птицы. Всюду вьются белые дорожки, обсаженные густым подстриженным кустарником. Она собирает цветы. Вот прекрасная роза! Дора хочет сорвать ее. Протянула руку. Ах! Из-за куста выбежал человек. Это Павел. Как она испугалась! Впрочем, не было времени пугаться. Витязь обнял ее, поцеловал в лоб, поцеловал еще раз. Какой дивный сон! Девушка отложила вышивание и блаженно закрыла глаза. Она грезила, грезила наяву, но вскоре ее пробудил громкий разговор. Она увидела медленно приближающегося отца, с ним шли судья, нотариус и священник. На каждом шагу они останавливались, размахивали руками, кивали головами, оживленно что-то обсуждая.
– Ведь это просто ужас! – возмущался толстый судья. – Наказание господне! Что только у нас творится! С тех пор как хозяин Медведграда стал подбаном, он издевается над нами больше, чем над кметами.
– Per amorem dei,[91] что еще? – спросил капеллан.
– Horribile dictu,[92] кошмар, преподобный отец! – загундосил Каптолович.
– Но, ради бога, господа, расскажите, неужели опять насилие? – спокойно спросил Крупич.
– Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как он вас, мастер, истязал у Каменных ворот…
– И нас, salva auctoritate magistratus,[93] за жарким окрестил позорным именем разбойников, – добавил Каптолович.
– Знаю, – ответил Крупич, – но ведь мы официально передали протест господину бану и подали жалобу в королевский суд. Для того господин Иван Якопович и ездил в Пожун.
– Sic est,[94] именно так! – добавил Шалкович.
– И все согласно закону и обычаю, – подытожил Каптолович.
– Но едва рана у вас затянулась, – продолжал судья, – пожалуйте вам, новая пакость! Незадолго до святого Георгия гричанские женщины, Ела Бедековичева и Бара Харамиина, стирали белье у Топличского ручья. Кругом было тихо, но вдруг откуда ни возьмись выскочил слуга Грегорианца Андрия Колкович со своими разбойниками и набросился на женщин…
– Satis,[95] довольно! Содом и гоморра! – перекрестился Шалкович.
– Нет, не довольно, – продолжал судья. – Когда женщины подняли крик, что они пожалуются господину подбану, эти антихристы, злобно расхохотавшись, сказали, что пусть, дескать, жалуются на здоровье, господар им наказал колотить загребских скотов, не щадя и женщин, да еще и награду пообещал!
– Скоты мы, значит, скоты! – И Каптолович схватил капеллана за руку. – Вы только подумайте, ваше преподобие, мы скоты!
– Храни нас господь! – промолвил тот, крестясь.
– Но и это еще не все, – продолжал судья, – обедня продолжается. Слуги Грегорианца у Кралева брода раздели догола горожанина Мию Крамара, и бедняге пришлось сидеть под дождем в кустах до вечера, чтобы прокрасться домой.
– Нет, вы только подумайте! – воскликнул Каптолович, поднимая руки.
– Ox, proles diaboli![96] – вздыхая, буркнул капеллан.
– А самое худшее еще впереди, – продолжал судья.
– Слушаем, – сказал Каптолович.
– Слушайте и креститесь! Вчера вечером, когда я сидел за ужином, ко мне в дом ворвались жена мастера Коломана с нашим достойным асессором Иваном Бигоном. Женщина кричала и плакала, и я подумал, что волк утащил у нее теленка. Но когда Бигон рассказал, в чем дело, то оказалось все во сто крат хуже! Дня четыре тому назад наш рачительный Бигон направил четырех вьючных лошадей в Приморье за оливковым маслом. Я отговаривал его, зная, что Грегорианец приказал слугам хватать загребчан где придется. Но что поделаешь, Бигон, как я уже сказал, послал слуг с четырьмя лошадьми. У Кралева брода на них налетела ватага Грегорианцевых молодчиков, слуг избили, а лошадей угнали в Молвицы!
– Слышите, четыре лошади, это не безделица, – заметил важно Каптолович.
– Идти за лошадьми Бигону было недосуг, дела в лавке не позволяли, как-никак базарный день! «Сходи-ка ты, кум, в Молвицы к Грегорианцу, – сказал он мастеру Коломану, – пусть вернет лошадей!» Коломан и отправился. Представ перед лютым Степко, Коломан объяснил, кто он и зачем пришел, добавив, что, дескать, стыд и срам, что вытворяют его слуги. Тут мой Степко с ехидной улыбкой пригласил Ко ломана: «Пойдемте, мол, спустимся, мастер, во двор и разберемся, что они натворили!»
Едва они вышли во двор, Степко подмигнул слугам, те, как собаки, набросились на беднягу Коломана, затащили в сарай, раздели донага и палками исколотили «до полусмерти. А Степко все время хохотал, а потом сказал Коломану: „Сейчас мы тебя подковали, загребский пес; теперь проваливай и кланяйся достопочтенному магистрату! Пусть пожалуют в Молвицы, я их еще почище угощу!“ Теперь бедный Коломан лежит в постели, словно Лазарь!
– Так поступать со славным магистратом? Потчевать нас березовой кашей! Вы слышали, преподобный отец капеллан? – возмущался нотариус. – Ведь мы призваны всыпать палок кому надо, а мы их сами получаем! Скажите, пожалуйста, и это божье создание, крещеная душа?
– Et lidera nos a malo![97] – смиренно прошептал в ответ капеллан.
– Что делать? – повторил Каптолович.
– Не упускать случая и платить той же монетой! – заметил Крупич, который молча слушал весь разговор. – Полагайся на себя да на своего коня.
– Однако, мастер, клянусь богом! – боязливо прервал его Каптолович. – Штука эта тонкая, надо письменно.
– Что «письменно», господин нотариус? – спросил ювелир. – Вы-то палок не отведали, вам легко говорить «письменно», а я их отведал, я, горожанин! Что толку проливать чернила, когда льется кровь? Я не подстрекатель и человек не вздорный, но если дойдет до дела, то пишут вот так… – И золотых дел мастер поднял кулак.
– Bene, bene, однако… – пробормотал Каптолович.
– И никаких «однако»! – ответил Крупич, – Господа, пойдемте к Якоповичу. Молчать мы не имеем права! Пусть ведет нас в Самобор, пойдем и я, и господин Каптолович, и откровенно все выскажем бану, пусть что-нибудь делает, давал же он клятву быть строгим и справедливым!
– Optime! Именно так, – подтвердил Каптолович, вздохнув свободнее. – Только нужно все по закону. Бан действительно строг и справедлив, у него дружба – дружбой, а служба – службой. Но кстати! Я вспомнил об одном обстоятельстве! Негоже идти к бану с пустыми руками! Бан любит поесть и выпить, а его госпожа супруга, верно, лакомка, как и всякая женщина. Потому, ad captandam benevolentiam[98] вельможного господина бана, полагаю, следует поднести сома и пять кварт старого вина, а госпоже супруге две головы белого сахара. Дома у меня есть сом, вино даст его милость господин судья, сахар возьмем за счет города у Шафранича, стоит он один форинт двадцать динар. Правильно?
– Господи, благослови! – промолвил Крупич. – А сейчас пойдемте, господа.
– Пойдемте, – согласились все и направились к дому Ивана Якоповича.
* * *
Спустя два дня после этого бурного разговора госпожа супруга бана прогуливалась в два часа пополудни по самоборскому саду. Господин бан, который малость разленился с тех пор, как на его долю достался этот высокий сан, дремал в своей комнате после тяжелой работы над оленьим жарким с окичским лавровым листом. К тому же надо было приберечь силы на завтра, так как он уезжает в лагерь, а затем идет на турок. Сердце госпожи Клары не рвалось к сонному супругу, тем более что он оставил ей достойного заместителя, приятного гостя, полковника Бернарда де Лернона. Его очень хорошо принял пражский двор, и он был отнюдь не противен и госпоже Кларе. Как и барон Унгнад, мосье де Лернон особой красотой не отличался – сухой, бледный, выглядевший старше своих лет. Но де Лернон был все же высокий, стройный, с черными глазами, небольшими черными усиками и красиво очерченным тонким носом, в общем, кавалер с головы до ног. Кроме того, де Лернон не говорил грубостей, в то время как Унгнад рубил сплеча.