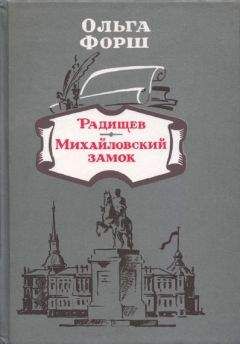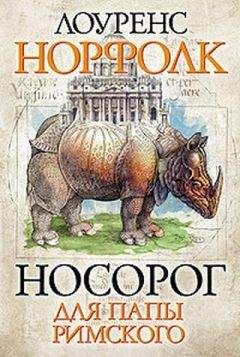Помещик ныне на французский манер хочет одеться, по-французскому тоньше жить. Коль не хватит оброчных, он не чихнет, всю деревню продаст. Хорошо ежели семьями, а не то и всех вразброс, в одиночку. Рядом с продажным скотом и публикацию даст о людишках.
Был крепостному один свет в окошке — бежать. И бежали в Сибирь, в Польшу, на Дон.
И вот ныне есть иное спасенье голому люду — примкнуть к «Петру Федоровичу», справедливому «ампиратору», обещавшему крестьянам в своем манифесте: «землю, рыбные ловли, леса, борти, бобровые гоны и прочие угодья, также и вольность».
Всем идти с Петром Федоровичем супротив бояр — на самую Москву.
А вокруг голи народной, заводских, приписных, беглых тьма-тем степных воинов, с колчанами и пиками, с визгом и гиком на мелконогих, быстрых как вихри, конях. Накалены биться за землю, за пастбища, за самую жизнь, — все у них взято, им терять нечего.
Вся орда управляется из «дворца государева», что в Берде. У входа денно и нощно стоит почетный караул, на стене персона висит цесаревича, сына — Павла Петровича. К Надёже-государю не идут без любимца его Якима Данилина. Много трудов поднять должен Надёжа, а врагов у него сила. Во дворце у него не от гордости — от нужды караул. Раньше срока победного чтобы враг его не решил…
Идет батюшка Петр Федорович мстителем за горькое дело народное, за права сына родного. А полками командуют у него славные атаманы: Хлопуша Рваные Ноздри — заводским людом, рабочими, Чумаков — артиллерией, Иван Наумович Зарубин — «граф Чернышев», во всех делах рьяный, из первых признавших Надёжу величеством, Иван Творогов — казачьего полка Илецкого командир, Муса Алиев татарами ведает, Кинсля Арсланов — башкирцами, царицын офицер Шванвич — солдатскими пленными, Белобородов с самим Надёжей направляют все движение.
Хороши атаманы, хороши и детушки, да беда — долгих сроков они не выдерживают.
Многоснежна зима, мало хлеба, и к своему какому ни на есть жилью тянет обратно крестьян… Да они ж и не воины! Им ли устоять против натиска регулярных, обученных, снабженных амуницией и конями царицыных войск? И не устояли.
Взял Муффель зимой Самару, а ранней весной взял Татищеву крепость Голицын. Сам батюшка ее укреплял, сам расставил орудия, а судьбы не было.
И пошли вместо побед поражения.
Через два денька разбил Михельсон Чику-Зарубина, под Уфой потерпел поражение на уральских заводах Белобородов. А за поражениями пошло повальное бегство из Берды, дезертирство в войсках.
Вероломно преданы были три главных соратника атамана изменившей старшинской верхушкой: Хлопушу выследил на кратком свиданье с женой каргалинский старшина и, связав его, свез в Оренбург; атаман Торнов доставлен был Михельсону башкирским старшиной Кидрясом. И «граф Чернышев» — едва узнали про поражение войск Петра Федоровича — закован был в кандалы казачьим есаулом.
Совещание сорока старшин послало повинную Михельсону…
Пугачев не имел силы идти на Москву, где его одни ждали, другие боялись. Где, несмотря на пушки перед домом генерал-губернатора, усиленный дозор и разъезды стражи по городу, нет-нет, а пробежит вдруг, как мощное пламя, озорной крик: «Да здравствует Пугачев!»
Не имея иного выхода, Пугачев отступил к югу на Дон, на погибель. На краткий миг, — как пламя большого костра, перед тем как ему угаснуть совсем, — две удачи осветили его мятежный закат.
Неутомимый Белобородов поднял заводы. Башкирские манифесты Пугачева вдохновили башкирцев, кинули их орды на пехоту царицы, и «буйство сего народа было великое».
Расстроив все планы враждебных генералов, Пугачев опять победителем въехал в крепость Осу и взял Казань.
С Пугачевым были крестьяне, рабочий люд, простые жители городов. С царицей — дворянство.
Домашнее дело яицких казаков превратилось в борьбу за права всех народов необъятной страны, в борьбу против государственной власти, полагавшей смысл и значение самодержавия единственно в выгодах личности, имения, всего корпуса дворян, в борьбу против самодержицы, ставшей только казанской помещицей.
Пугачев был разбит в трех боях и начал свое знаменитое отступление на юг, которое походило скорей на триумфальное шествие завоевателя. Восставшие крестьяне кинулись к нему в такой силе, что дан был приказ принимать в войско одних конных. Так велика была эта крестьянская сила, что сам граф Панин о ней написал: «Не так важно истребить и поймать самого Пугачева, как укротить дух возмущения в народе».
Царицын был первый город на Волге, не пустивший пугачевцев. Капитан Цыплетев отбил первое нападение. Приготовились сделать ночью повторное, но, получив известие о большой подмоге правительственным войскам, Пугачев заторопился к Черному Яру. Как грозный поток, пронеслись пугачевцы по линиям оренбургской и уральской и, сметя все заслоны, ордами залили страну. Но регулярное войско, богатое оружием, амуницией, фуражом, не могло не стать победителем и пресечь бег народной волны.
Поражение порождает предателей. Предавать начнут дело народное не черносошные и оброчные, не рабочий люд, а верхушка старшинская и с ней те, кто, отъевшись сам, порвал с горем мирским, кому уж оно не болит.
Сел корабль на мель, крысы первые…
В Царицыне было управление всей царицынской линии, соединявшей Дон с Волгой и состоявшей из земляного вала, который тянется от Качалинской станицы. Вот на этом валу и произошел намедни великий конфуз. И не просто конфуз, а вроде всей судьбы Надёжиной поворот.
На валу там расставлены «маяки». Высокие шесты с наверченным пуком соломы. Зажженная солома давала знать об опасности. Содержание вала и разъездов было заботою донских казаков. Для этого дела при особом атамане в год ставило войско донское более тысячи человек.
Пугачевцы подошли вплотную к валам.
Потрясая под ветром косматой громадой, разгорелся огонь маяка. Вдруг под ним на валу во весь рост встал верзила с богатырским криком пустил вниз пугачевцам:
— Здорово, казак наш донской Емельян Иванович, здорово пожаловать!
Мало ль, бывало, кто лаял самозванцем, кровопийцей-злодеем, антихристом, — на вороту брань не висела. А тут и не обидно сказано, да к месту — и вышел зарез без ножа.
Судьба, видно, пришла, и пошатнулась головушка. Когда донские казаки, из тех, что передались только что Пугачеву, поближе рассмотреть его захотели, он, вспомнив тот нарочито дерзостный выкрик из-под маяка — «здорово, Емельян», — отворотил с досадой лицо.
Шепотки побежали по лагерю.
— Донской, бают, ихний казак, хорунжим в прусской кампании хаживал!
— От своих харю воротит, чтобы вдругорядь не обознали. Ему некий с валу уж выкрикнул.
Новые сподвижники еще пуще смутились, когда один по одному донцы принялись покидать лагерь, и в стане Пугачева не осталось вскорости ни одного. За донцами отставать пошли и другие. Оставшиеся собирались кучками то тут, то там и тайком почитывали занесенную в лагерь правительственную столичную публикацию:
«Ее императорского величества, государыни императрицы и самодержицы всероссийской, и генерала и кавалера графа Панина, определенного для пресечения мятежа».
В бумаге давалось точное обозначение «злодея, именующего себя здравствующим императором Петром Третьим».
«…он есть бежавший со службы донской казак. Знают его все донские казаки, ибо он служил с ними в Польше в начале турецкой войны, ныне прекратившейся. Женат он на казачьей дочери».
Приказал Надёжа секретарю своему написать казакам войска донского грамоту позазывней да поуветливей. К их земле подходили…
Секретарь Пугачева Иван Трофимов, склонив набок голову, прищуря один глаз, выводил посланье: «Вы уже довольно и обстоятельно знаете, что под скипетр и корону нашу почти уже вся Россия добропорядочным образом прежней своей присяги склонилась».
Секретарь поднял было руку взять росчерк, а Иван Творогов, близко к бумаге пригнувшись, глумливо сказал:
— Было дело, да сплыло!
И, ровно клещами зажав руку секретаря сильными пальцами, стал его высмехать:
— Ай, дурак… оскорбление величеству сотворяешь! Именные указы во всем мире подписывать полагается государю самолично, а не секретарю! Неси тотчас к Надёже!
— Держи карман шире, — ухмыльнулся и секретарь, — не дюже Надёжа горазд пером баловаться-то. Намедни всю бумажку исчиркал и с важностью мне при чужих подает: — Это я по-немецкому вспоминаю, на днях в Сарепту войдем.
Я одну немочку разыскал:
— По-какому, — говорю, — тут написано? Можешь понимать, что по-твоему?
И руками отмахнулась.
— Очень просто, что твоя немка по-немецки читать не обучена, — пряча в бороду лукавство, сказал Творогов. — А ты умей понимать, когда дело тебе говорят. Ужель все разжуй да в рот положи? Небось сейчас высочайший прием? Чай, немало из тех, что в него, как в бога… куй, пока горячо, — пословицу знаешь? Как он есть царь Петр Федорович, то по-немецкому, равно и по-русскому пребегло должен писать. Так аль нет? Не каракулями, чай, царей обучают?