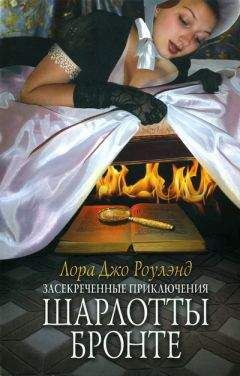Теперь, через пятнадцать лет, воспоминание о том золотистом майском дне разбередило мне душу, и я судорожно всхлипнула. Эти невинные блаженные дни никогда не повторятся. Судя по всему, мой любимый брат — мальчик, который был нашей радостью и гордостью, такой цветущий, подающий множество надежд, — утрачен для нас навсегда.
Слава богу, литературные попытки отвлекали нас с сестрами от мрачной атмосферы, воцарившейся в пасторате. Четвертого июля 1846 года две рецензии на наш сборник стихотворений наконец появились в газетах.
К нашему ужасу, первая рецензия уделила немало внимания личностям загадочных Беллов.
— «Кто такие Каррер, Эллис и Актон Беллы?» — вслух прочла я сестрам отрывок из «Критика».
Мы лежали на лугу за пасторатом, под зеленым шелестящим деревом. Дул западный ветер, по небу быстро проносились яркие белые облака. Вересковые поля стелились вдали, пересеченные темными прохладными ложбинами; но рядом зыбилась высокая трава и ходила волнами на ветру, и жаворонки, дрозды, скворцы, малиновки и коноплянки звенели наперебой со всех сторон.
— «Принадлежат ли они к поэтам настоящего или прошлого, живы они или мертвы, англичане или американцы, где родились и где живут, сколько им лет и каково их общественное положение, не говоря уже о христианских именах — издатели не решились открыть любопытному читателю». — Я в замешательстве опустила газету. — Похоже, пытаясь скрыть свой пол, мы невольно сотворили загадку.
— Он хоть что-нибудь пишет о качестве стихотворений? — осведомилась Эмили.
— Да, чуть ниже. — Я продолжила: — «Прошло немало времени с тех пор, как мы наслаждались сборником столь искренней поэзии. Среди груд рифмованного мусора и мишуры, которые загромождают стол литературного критика, этот маленький томик в сто семьдесят страниц блеснул подобно солнечному лучу, радуя взгляд настоящей красотой, а сердце — обещанием приятных часов. Перед нами добротная, живительная, мощная поэзия…»
Эмили выхватила газету из моих рук и с удовольствием процитировала:
— «Те, в чьих сердцах природой натянуты струны, способные сопереживать всему, что прекрасно и правдиво, найдут в сочинениях Каррера, Эллиса и Актона Беллов больше гения, чем наш практичный век, казалось, выделил подобным возвышенным упражнениям разума». — Она изумленно повторила единственное слово, которое больше всего привлекло ее внимание: — «Гения».
— Вторая рецензия так же хороша? — тихо поинтересовалась Анна.
— Не совсем, — сообщила я, открывая «Атенеум», который уже изучила. — Тут обвиняют Актона и Каррера в «потворстве чувствам», но высоко превозносят Эллиса, обладающего «несомненной мощью крыла, которое способно достичь высот, не достигнутых здесь».
Эмили лежала на траве и удовлетворенно улыбалась.
— Что ж, это уже кое-что.
— Несомненно, — торжествующе согласилась я. — Мы не зря вложили деньги в издание.
Однако внешний вид обманчив, как мы вскоре убедились. Несмотря на то что в октябре появился еще один благожелательный отзыв и мы потратили десять фунтов на рекламу, наш стихотворный сборник не имел успеха. За год после его публикации было продано всего два экземпляра! Но в тот теплый июльский день 1846 года мы с сестрами ничего не знали о судьбе своей книги. Даже если бы некий прорицатель мудро предупредил нас, что наше первое вторжение в издательский мир со временем обернется бесповоротным поражением, полагаю, мы не упали бы духом, поскольку стремились к чему-то большему и яркому: каждая из нас была готова предложить к публикации законченный и переписанный набело роман.
На сей раз мы не собирались печататься за свой счет. В начале июля я упаковала наши рукописи и отправила первому лондонскому издателю из составленного мной списка, отметив, что авторы уже выставляли свои работы на суд читателя. Поскольку чаще всего продавались трехтомники, я преподнесла романы как «три истории, каждая размером с один том, которые могут быть опубликованы вместе или по отдельности, в зависимости от целесообразности».
Пока мы ждали новостей о наших произведениях, моим вниманием полностью завладел отец. Папа давно уже нуждался в помощи в большинстве повседневных дел, а теперь окончательно ослеп.
В августе 1846 года я поехала с папой в Манчестер на операцию у мистера Уилсона, довольно известного специалиста по глазным болезням, с которым я и Эмили проконсультировались в начале месяца. Мы поселились на съемной квартире, где двадцать пятого августа мистер Уилсон с двумя ассистентами произвели операцию. Врач решил оперировать только один глаз, на случай если разовьется инфекция. Папа проявил удивительное терпение и твердость на протяжении всего сурового испытания. После его отправили в кровать в темной комнате, наложили повязки на глаза и вызвали сиделку, которой было велено ставить по восемь пиявок на виски, чтобы избежать воспаления. Отца нельзя было беспокоить четыре дня; он должен был оставаться в квартире в течение пяти недель и как можно меньше говорить.
Началось томительное ожидание.
Утром перед операцией пришло письмо от Эмили, где сухо сообщалось, что Генри Колберн, первый издатель, которому я послала наши рукописи, вернул их, сопроводив коротким отказом. Я упала духом, но почти не думала о новости весь день, полностью сосредоточившись на обеспечении необходимого уюта и поддержки для папы. Когда жарким августовским вечером операция закончилась и я осталась одна в тесном, душном кирпичном доме в Манчестере, мои мысли невольно вернулись к нашему будущему.
Я не могла — не желала — смириться с поражением. Достав из чемодана складной секретер, всегда сопровождавший меня в дороге, я установила его на поцарапанный столик у окна и настрочила короткое письмо Эмили, в котором велела отправить наши работы еще раз. Затем я вскочила, лишенная покоя, и стала расхаживать по маленькой гостиной.
Как странно жить в незнакомом месте в вынужденном уединении! Чем мне заняться в следующие пять недель? К моему разочарованию, мне запретили даже ободрять отца беседой. Я знала, что мои дни будут долгими и полными тревоги и праздности. Хуже того, я страдала от сильной зубной боли. Физическая боль была не менее мучительной, чем мое вынужденное одиночество. Мне отчаянно нужно было отвлечься.
Выход из затруднительного положения подсказал внутренний голос, такой ясный и четкий, что я застыла от неожиданности.
«Есть одно место, — пронеслось в моей голове, — где ты всегда находила утешение и убежище в час нужды: твое воображение».
«Да! Верно! — продолжила я мысленный монолог. — Недостаточно полагаться на завершенные рукописи как на единственный ключ к успеху. Сестры могут поступать как угодно, но если я действительно хочу когда-нибудь издаваться, я должна писать дальше. Я должна начать новую книгу, и чем скорее, тем лучше — а разве сейчас не идеальное время?»
О чем же мне писать?
Эмили настаивала, что моему роману «Учитель» не хватает элемента случайности, что он лишь поверхностное изображение, не имеющее глубины. Она критиковала меня за то, что я повествовала от лица мужчины, и называла мой слог бесстрастным и бездушным. Возможно, Эмили была права. Возможно, самоконтроль, который я так усердно сохраняла после возвращения из Брюсселя, губительно повлиял на мой слог. Возможно, издатели и читатели ищут чего-то более бурного, чудесного и волнующего, чем моя непритязательная история.
Я вышагивала по комнате туда-сюда, глубоко погрузившись в раздумья и пытаясь изобрести свежую тему для новой книги, но все, что приходило на ум, ничуть не привлекало меня. Наконец, когда солнце село, я поняла, что сильно проголодалась и в немалом разочаровании оставила размышления. Я спустилась на кухню, зажгла свечу и попыталась что-нибудь съесть, но зуб болел немилосердно, и я едва сумела, морщась, откусить немного хлеба и холодного мяса, которое купила по прибытии. Затем я навестила спящего отца, после чего вернулась к своему одинокому бдению.
Было уже около полуночи. Голодная, скучающая и расстроенная, я выглянула в окно гостиной и увидела яркую луну и россыпь звезд. Внезапно меня охватило необъяснимое ощущение, и я затаила дыхание. Мне казалось, что я уже смотрела в это окно, испытывала те же эмоции. Я знала, что это невозможно; я никогда не бывала в этих комнатах. Тогда откуда взялось столь удивительное чувство? Что в моем печальном настоящем настолько сверхъестественно знакомо?
Ответ явился внезапно. Я действительно уже была заперта в таком же странном и пустынном месте, где была так же голодна и несчастна. Я точно так же стояла перед окном и смотрела на ночное небо с безнадежной тоской, мечтая, чтобы луна перенесла меня на своем луче обратно в Хауорт. Мне ясно вспомнилось, словно это было вчера: мне восемь лет, и я томлюсь в темнице под названием Школа дочерей духовенства.