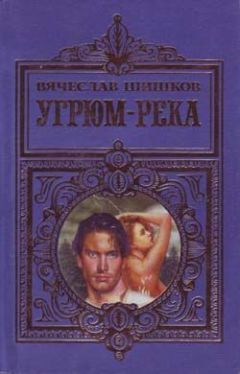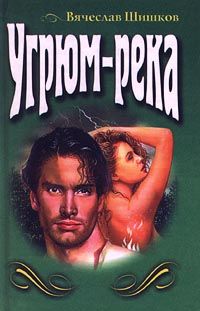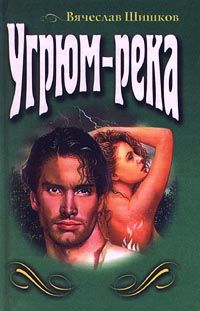Шапошников тоже вскочил.
– Анфиса Петровна!
– Давай вина! Нету? Прощай!
– Постойте, дорогая моя! Минутку... – Он схватил ее за руки и дружески-участливо спросил: – Так в чем же дело?
У Анфисы слезы полились.
– Дело не во многом, Шапочка. Дело в сердце моем бабьем... Эх! Ну, прощай, дружок... Вижу, ничего ты мне не присоветуешь. Тут не умом надо... Эх!.. Уж как-нибудь одна. Прощай!..
Анфиса на голову выше Шапошникова, и когда обняла его, он уткнулся лицом ей в грудь. Ей приятно было ощущать, как этот премудрый книжный человек дрожит и трепещет весь. Выбивая зубами дробь и заикаясь, он сказал:
– Вы... вы мне, Анфиса, присоветуйте... Вот скоро кончится срок ссылки, а чувствую – не уйти мне... Анфиса... Анфиса Петровна... Не уйти.
– Да, верно... Не уйти, – сказала она. – Ты уж по пазуху влип в нашу тину. Женишься ты на толстой бабище, а то и на двух зараз. Сопьешься да где-нибудь под забором и умрешь...
– Нет, не то. Нет, нет! Мне стыдно показаться смешным... но я...
– Вижу жизнь твою насквозь, Шапочка... Так и будет.
– И откуда у вас вещий такой тон?
– Господи, да я же ведьма!
Комнату мало-помалу заволакивали сумерки. Волк, и зайцы, и зверушки слились, утонули в сером. Шапошников чиркнул спичку и зажег самодельную свечу. Когда оглянулся – Анфисы не было. Был Шапошников – удивленный, оробевший чуть, были волк, и зайцы, и зверушки. Еще на столе, в бумажке, деньги – тридцать три рубля. В записке сказано:
«Возьми себе, помоги товарищам на бедность. Деньги эти черные».
Петр Данилыч объявил черкесу:
– Ты останешься у нас. Прохор уехал надолго.
Ибрагиму без дела не сидится: стал с Варварой на продажу конфеты делать – хозяину барыш, – а над воротами укрепил неизменную вывеску:
СТОЙ! ЦРУЛНАЪ ЫБРАГЫМЪ ОГЪЛЫЪ
Но хозяин как-то по пьяному делу сшиб ее колом: «Весь дом обезобразил!.. Тоже, нашел где...» Тогда Ибрагим прибил вывеску на вытяжной трубе отхожего места: видать хорошо, а не достанешь.
Хозяин часто ездил по заимкам к богатым мужикам попить медового забористого пива, поволочиться за девицами, за бабами; однажды здорово его отдубасил за свою жену зверолов-мужик. Петр Данилыч лежал целую неделю, мужик пришел навестить его и гнусаво извинялся:
– Ежели бы знать, что ты, неужели стал бы этак лупцевать... А то – темень. Да пропади она пропадом и Матрена-то моя, думаешь – жаль для такого человека?
Заглядывал к Анфисе, но та все дальше, все упрямее отстранялась от него. Это его бесило. Грозил выгнать Анфису вон из дома. Ну что ж, пусть гонит, неужели свет клином сошелся? Анфиса при нем же начинала укладывать в сундуки добро. Куда же это она собирается? К нему. К кому это – к нему? А вот он узнает, к кому уйдет Анфиса. Тогда он принимался упрекать ее, потом всячески ругать, она молчала – он выходил из себя и набрасывался с кулаками, она спокойно говорила: «Иди домой, не поминай потаскуху Анфису лихом. Прощай!» Он с плачем валился ей в ноги: «Прости, оставайся, владей всем». И, придя домой, бил жену свою смертным боем. Марья Кирилловна из синяков не выходила, денно и нощно думала: «Вот женится Прохор, сдам все дело с рук, уйду в монастырь».
Петр Данилыч о хозяйстве не заботился, а хозяйство плохо-плохо, но приумножалось: хлопоты Марьи Кирилловны неусыпны, Илья Сохатых тоже усердно помогал, хотя и небескорыстно: пообещалась хозяйка женить его на Анфисе Петровне.
– Когда же, Анфисочка, осмелюсь настоятельно, без юридических отговорок, вас спросить? – приставал к красавице Илья. – Ведь надо ж в конце всего прочего и в гегиену с медициной верить... Просто измучился я весь от ваших пышностей в отсутствие женитьбы.
– Скоро, Илюшенька!.. Скоро женю тебя... Да многих женю, дружок...
– Ах, оставьте ваш характер!.. Это смешки одни с вашей стороны... И вследствие наружного пыла вы толкаете меня к гибели. – Илья ерошил рыжие свои кудри; с его тонких губ вместе с витиеватыми словами летела слюна. – Вы вскружили всем головы, даже один человек, – я молился на него, вот какой курьезный человек, – и тот из-за вашей красоты весь остригся и стал как едиот... Ага, смеетесь?! А каково это видеть мне, вашему, позволю себе уронить, нареченному, а?!
Отец Ипат отчаянно сморщился, зажал толстые щеки картами, сизый большой нос выставил вперед, уголками припухших глаз зорко и со страхом следил за правой рукой Петра Данилыча.
– Рр-раз! – хлестко щелкнул тот по самому кончику поповского носа десятком туго сжатых карт. – Два!
Отец Ипат бодал головой и хрюкал:
– Полегче!.. Зело борзо.
– Три! А ведь я, батя, со старухой-то своей разводиться хочу... Четыре!
– Не одобряю. Ой!!
– Пять!..
– Ну, слава Богу, все... Сдавай, – сказал отец Ипат, утирая градом катившиеся слезы.
– Поздно.
– Ишь, злодей, игемон, эфиоп. А реванш? Не желаешь?
– Поздно. Пойду.
– Куда это, к ней? К Меликтрисе Кирбитьевне? Зело зазорно. Право, ну.
– Батя, помоги... Тыщу.
– Больно ты дешев! А молодица хороша, сливки с малиной!.. Право, ну... Зело пригожа. – Он сдал карты, вздохнул, перекрестился: – Ох, Господи!
Петр Данилыч нарочно поддался. Отец Ипат тузил его сизый нос с остервенением, точно мужик конокрада.
– Ну, дак как, ваше преподобие? – сказал Петр Данилыч и сморкнулся в платок кровью.
– Нет, нет, меня, брат, не подкупишь... Дешево даешь! Право, ну. Дело кляузное, прямо скажу, грязное... Хотя в консистории у меня связишки кой-какие есть.
От священника – час был поздний – Петр Данилыч направился к Анфисе. Но завернул домой, чтоб взять коробку конфет и новые модные туфли, купленные в городе, по его поручению, приставом.
Пристав же в это время, сказавшись толстой, сварливой жене своей, что идет навести ревизию политическим ссыльным, направился к отцу Ипату. Тот собрался спать, сидел пред маленьким зеркалом в одном белье и растирал вазелином распухший нос.
Анфиса тоже сидела у себя пред зеркалом, кушала шоколадки и красовалась, примеряя соломенную шляпу с лентами.
– Это кто ж тебе шляпу? И конфеты! Эге, точь-в-точь, как у меня. Пристав? – поздоровавшись, спросил Петр Данилыч.
– Да, пристав.
Петр Данилыч сел и забарабанил в стол пальцами.
... – А я вас, отец Ипат, осмелился побеспокоить по важному делу, – сказал пристав, здороваясь со священником, и покрутил молодецкие усы. – Дело у меня сердечное...
– Да я фельдшер, что ли? Валерьянки у меня, Федор Степаныч, нету. Хе-хе-хе... Извини, что я в подштанниках.
– Я человек военный, – сказал пристав, ласково оглаживая эфес шашки, – и хочу начистоту. Помогите мне развод провести.
– Развод? Какой развод? Кто?! – изумился отец Ипат и уронил банку с вазелином.
– Я. С своей женой.
Отец Ипат выпучил на пристава свои узенькие глазки и застыл.
... – Дак пристав? – спросил мрачно Петр Данилыч.
– Да, да, да, – задакала Анфиса.
Он сорвал с Анфисы шляпу и бросил на пол.
– Это что ж такое?.. Петр Данилыч... Значит, я не вольна себе?
... – Ты?! С своей женой? – наконец протянул отец Ипат.
– Да, да, да, – задакал и пристав, виляя взглядом и выпячивая свою наваченную грудь. – Представьте, схожу с ума, представьте, Анфиса Петровна – вопрос жизни и смерти для меня...
Отец Ипат вскочил, ударил себя по ляжкам и захохотал:
– Ах вы, оглашенные! Ах вы, куролесы!.. Епитимью, строжайшую епитимью на вас на всех! – Нося жирный свой живот, он стал бегать босиком по комнате. – То один, то другой, то третий. Ха-ха-ха! Ну, допустим, разведу вас... Извини, что я в подштанниках... Вас два десятка, а она одна... Ведь вы перестреляетесь... Дураки вы этакие, извини, Федор Степаныч... Право, ну...
– Кто же еще?
– Кто, кто?.. Да скоро из столицы будут приезжать. Вот кто... А вот я гляжу-гляжу, да и сам расстригусь и тоже – к Меликтрисе: полюби!.. – Отец Ипат опять ударил себя по широким ляжкам и захохотал.
Потом началась попойка.
...– Я все для тебя сделаю, хозяйкой будешь в доме, – говорил размякший Петр Данилыч. – Поп обещался развод в консистории обмозговать. А нет – доведу жену до того, что в монастырь уйдет.
Пили они наливку из облепихи-ягоды. Жарко! У Анфисы кофточка расстегнута. Петр Данилыч блаженно жмурится, как кот, целует Анфису в лен густых волос, в обнаженное плечо. Но Анфиса холодна, и сердце ее неприступно.
– Я бы всем отдала на посмотрение красоту свою. Пусть всяк любуется. Меня нешто убывает от этого. А душа рада. Вот приласкаю какого-нибудь последнего горемыку, что заживо в петлю лез, – глядишь, и ожил. Значит, и греха в этом нету. Был бы грех, душу червяк тогда грыз бы. У меня же на душе спокой. Ничьей полюбовницей, Петя, не была я, а твоей и подавно не буду.
– Я женой предлагаю... Дурочка!..
– Какая я жена для тебя? Ты крепок, да уж стар. Если женишься, я и тогда красоту свою буду другим раздавать, как царица нищим – золото. Заскучает черкес твой – приласкаю, сопьется с панталыку сопливый мужик – и его своей красотой покорю...