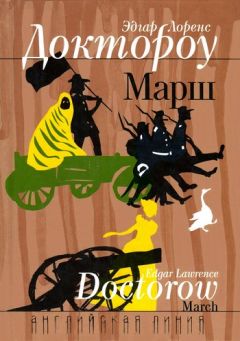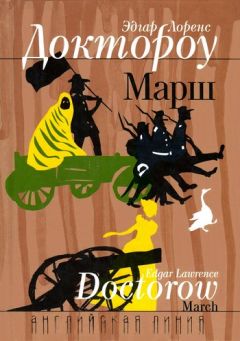Перл тоже почуяла весну. Когда медицинский обоз Сарториуса катил по широкой главной улице, она даже встала рядом с возчиком, ей хотелось вобрать в себя побольше воздуха, внюхаться в него: пахнуло свежевспаханной землей, гнильцой зимнего поля и — неужели? — ароматом сирени. На полянках вдоль обочин уже подымались первые желтые головки крокусов, зазеленели побеги дикого винограда. В одном из богатых дворов мелькнули зеленовато-золотистые колокольчики форситии. Перл хотела, чтобы Стивен тоже полюбовался этой красотой, но тот ехал с доктором Сарториусом. Она позвала Мэтти Джеймсон, и та выглянула из-под брезента, моргая и щурясь, как сурок, проснувшийся после зимней спячки.
Вы чуете, как весной пахнет, а, мачеха? — спросила Перл.
Мэтти улыбнулась своей всегдашней рассеянной улыбкой. И все же, будто восприняв сказанное Перл как предлог, чтобы немного приободриться, вынула гребни из волос, дала им свободно рассыпаться по плечам, но потом, расчесав пальцами, снова скрутила в узел и заколола гребнями.
Перл так и осталась в неведении, поняла ее мачеха или нет. Конечно, о какой весне можно вести речь кроме той, что осталась в Джорджии, на плантации, где, пока не пришла свобода, она жила и жила всю жизнь? Каждая весна, которую доведется ей встречать на этой земле, будет напоминать о тех первых в ее памяти веснах, когда (впрочем, совсем недолго) небо над нею сияло добротой и за всем происходящим чувствовалось присутствие чего-то нездешнего, с высоты взирающего и на ее страх, и на отца с его хлыстом, не щадившим даже тех, кто по возрасту годился ей в дедушки, и на ее несчастную рабыню-мать, и на душевные песни в полях белого хлопка, когда в его белизне теряются, утопают работники, словно хлопок — это вода и они не могут оттуда выплыть; в вышине чувствовалось присутствие кого-то, существующего по иным законам, не таким как здесь, и она, тогда еще совсем маленькая, воспринимала его как настоящего, истинного Хозяина, который говорил ей: я здесь, дитя мое, слушай и знай, что мир не исчерпывается тем, что делается вокруг тебя, затем я и показываю тебе эти маленькие цветочки, раскидав их повсюду, чтобы ты любовалась ими, нюхала их и знала, что твой отец никак не может этому помешать.
Но, возможно, Мэтти Джеймсон все-таки поняла, потому что, когда Перл вновь посмотрела на нее, она улыбалась — вероятно, думала о Джорджии и вспоминала то же, что и Перл: у них было много общих воспоминаний, и вообще у них тогда было много общего, хотела она того или нет.
Наступление хорошей погоды радовало Шермана, с большим облегчением вырвавшегося из Южной Каролины, которая ему представлялась сплошным болотом, где реки не имеют берегов, а людские души — устоев порядочности. От затхлой сырости у него разыгралась астма. В груди играла музыка — по нескольку дней кряду он был прямо какой-то ходячей фисгармонией. Порой, чтобы перевести дух, приходилось напрягать всю волю — и вот тогда бывало действительно скверно. Недостаток воздуха — это ужас, который преследовал его всю жизнь.[19] Поэтому он так ненавидел воду, поэтому в закрытом помещении спал куда хуже, чем под огромным черным небом, где порукой тому, что простора и воздуха ему хватит, был свет далеких звезд.
Он не хотел, чтобы Файеттвиль стал второй Колумбией. Спустил в бригады приказ относиться к населению этого штата с уважением. То, что произошло на Юге, здесь не должно повториться. В общем-то ведь Северная Каролина неохотно присоединилась к отщепенцам, и, по его мнению, ее жители не заслужили наказания, которое пришлось применить к их южным соседям. Однако приказы приказами, а в армии шестьдесят тысяч человек, так что кроме общих указаний требуется что-то еще. Для охраны города он выделил полки Четырнадцатого корпуса — их он считал наиболее дисциплинированными, там меньше горлопанов, их контингент набран в основном со Среднего Запада, где живут набожные, послушные люди.
Файеттвиль довольно красивый город — жалко; да, собственно, и уничтожать там особенно нечего. Правда, обнаружилось, что старый арсенал на плато, чуть не нависающем над городом, битком набит оружием конфедератов — винтовки, пушки, тысячи бочек пороха. При нем завод, в литейке которого делали как бронзовые «наполеоны», стреляющие двенадцатифунтовыми ядрами, так и пушки поменьше — девятифунтовки. В механических цехах полки ломились от готовых винтовочных стволов. Шерман приказал, чтобы к моменту, когда армия будет покидать город, весь комплекс был подготовлен к взрыву. Жаль, конечно, — сказал он полковнику Тику. — Но мы не можем оставить тут для охраны гарнизон. Объезжая город, он указывал то на мастерскую, то на текстильную мануфактуру, и Тик с готовностью вносил их в список на уничтожение.
Вспомнили про убитых пленных. Килпатрика Шерман образумил, не дал выполнить обещание казнить по одному мятежнику за каждого зарезанного солдата. Но тут новое дело: когда в Файеттвиль входили передовые части, отступающие повстанцы захватили одного из дозорных, застрелили, а тело повесили на фонарном столбе. В связи с этим генералам Харди и Уилеру обоим послали уведомления — дескать, подумайте, к чему может привести такая преступная практика. А чтобы те действительно подумали, Шерман приказал публично казнить пленного конфедерата, избранного по жребию.
С армией под охраной двигались человек триста пленных конфедератов: обмены пленными к этому времени стали явлением довольно-таки редким. В качестве лагеря им отвели поле к востоку от Файеттвиля, где они уселись на земле рядами, вокруг которых ездил сержант-кавалерист, крутил над головой лассо и время от времени забрасывал его на дальность. Один из пленных, тощий прыщавый малый с длинной шеей и выдающимся адамовым яблоком, среди своих прослывший клоуном, встал и с ухмылкой поймал брошенную веревку, считая, видимо, что настал момент, когда вражда отступает и даже с противником можно немного подурачиться. В ту же секунду лассо затянулось у него вокруг пояса и выдернуло его, с руками, плотно прижатыми к туловищу, из рядов пленных. Некоторые из пленных повскакали, стали кричать, грозить кулаками. Но охрана состояла из нескольких десятков всадников и каждый с винтовкой в руке.
Казнь соответствующим образом обставили: сперва торжественное шествие к центральной площади, потом несчастного пленника под бой барабанов прогнали сквозь строй вытянувшихся по стойке смирно солдат и замерших верхом на лошадях офицеров, и все это под взглядами притихшей, опечаленной толпы. Шерман посчитал, что на южных генералов это подействует крепче всяких заявлений и коммюнике — пусть знают, что воспоследует, если их подчиненные будут продолжать убийства пленных северян.
Удостоверить смерть казненного выпало Сбреде Сарториусу. Он снял с его глаз окровавленную повязку. Одна пуля попала в левую щеку. Грудь разворочена, а еще одно попадание пришлось точно в лоб. Сбреде кивнул, и похоронная команда, уложив тело на деревянный щит, увезла его прочь.
Следующий день пришелся на воскресенье, и устрашенные жители Файеттвиля со всей присущей им набожностью устремились в церкви, где, к некоторому своему смущению, обнаружили также и солдат в синем. Но утро стояло мирное, небо голубело, и установилось не то чтобы тепло, но безветрие. По всем окрестностям полки стояли правильными лагерями; впервые за много недель непрерывного марша солдаты отдыхали, и армия походила на огромное стадо, отпущенное пастись.
Даже рыскающие по окрестностям отряды «помоечников» немножко помягчели, хотя по-прежнему вламывались в дома местных жителей, забирали одеяла с подушками, ковры для попон и палаток и всю провизию, какую удавалось найти. Многие солдаты отправлялись на реку стирать одежду либо нанимали негритянок, чтобы те делали это за них. Члены этого прачечного сообщества как раз первыми и увидели дым, поднимающийся из трубы парового буксира, который шел вверх по реке от морского побережья. Кричать и махать руками начали даже раньше, чем судно появилось из-за речной излучины, а чуть спустя, когда его гудок разнесся по городу, началось всеобщее ликование: после долгого пребывания в изоляции на вражеской территории наконец-то они не одни, наконец-то поддержаны другими федеральными силами.
Шерман радовался наравне со всеми. Неделей раньше, проходя через городок Лорел-Хилл, он послал переодетого в гражданское курьера вниз по реке Кейп-Фир в Вилмингтон, чтобы уведомить находящегося там генерала-северянина о том, что он скоро будет в Файеттвиле. Услышав теперь гудок парохода, Шерман понял, что курьер дошел. Еще этот гудок сказал ему, что путь по реке свободен и можно для снабжения использовать транспортные суда военно-морского флота.
Высыпавшие на пристань солдаты окружили буксир и без всякого снисхождения осыпали моряков насмешками: откуда, мол, такие черти чумазые выискались!