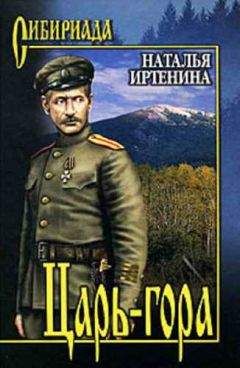2
Черная тайга, тесно обступавшая железную дорогу, казалась ведущим в никуда туннелем. Проход все сужался, мохнатые вековые стволы плотными рядами подступали ближе, и чудилось, что где-то впереди они сомкнутся и поглотят дорогу вместе с осторожно, словно на ощупь, ползущим по ней составом. Синее декабрьское утро мертвым светом проникало в вагон, обволакивало предметы: стакан в подстаканнике с недопитым чаем, раскрытую лакированную шкатулку красного дерева, американский кольт, золотой медальон с локоном светлых волос. Кроме локона, в медальон была вправлена обрезанная по краям фотокарточка. С нее едва заметно улыбалась молодая женщина с нежным овалом лица и умными глазами, в которых навсегда запечатлелось предчувствие неведомой беды.
Щелкнула застежка медальона, Шергин вернул его в шкатулку, закрыл крышку и провел рукой по лицу, снимая усталость. Поезд, будто осмелев, набирал скорость, отчаянно пробивая себе путь из черного таежного туннеля. Колеса глухо выстукивали рельсовый марш, синий рассвет разбавлялся мутной серостью. Вдруг поезд захлебнулся в своем отчаянном беге, словно получил удар по физиономии. Колеса жалобно завизжали, вагоны клацнули сцеплениями, стакан перевернулся, выплеснул чай и грянулся об пол. Шергин затылком бумкнул о стену купе, шкатулка съехала со стола к нему на колени. Состав, прокатившись еще немного, встал с пронзительно прошипевшим выдохом. Дверь купе отдернулась, испуганно вытаращился, прижимая руку к голове, Васька:
— Красные, вашбродь, партизаны!
Шергин рванул вниз окно, высунулся в морозное утро. Тайга вдоль дороги ватно безмолвствовала, впереди с паровоза кто-то соскочил в сугроб и побежал, переваливаясь, к рельсам. Шергин закрыл окно и взял со стола револьвер. Васька, забившись в угол, тупо рассматривал осколки стакана на полу.
— Сиди тут, — велел Шергин.
Сойдя с поезда, он пошел вдоль путей к паровозу. Из раскрытых дверей теплушек, оживленно гомоня, выпрыгивали солдаты, разминали ноги в сугробах, тут же, не отходя далеко, справляли нужду. От головы состава бежал унтер-офицер, махал рукой и с перекосившимся лицом ошеломленно орал, разнося весть:
— Пути дальше нет! Рельсы взорваны!
Оступившись в снегу, он налетел на Шергина, отшатнулся, козырнул и выкрикнул, по-рыбьи округлив глаза:
— По пути следования подрыв полотна, господин капитан!
Шергин оттолкнул его и, увязая по колено в сугробе, дошел до паровоза. Состав не дотянул до развороченных, вздыбленных на воздух рельсов десяток метров. Возле стояли машинист в тулупе и валенках и кочегар, вымазанный углем в арапа, выскочивший в одной кацавейке и ушанке. Оба чесали в затылках, сдвинув шапки на лбы.
— М-да, — сказал машинист, косо стрельнув глазами на Шергина.
— Н-да-а, — в тон ему протянул кочегар и посвистел.
— Ну и чья это работа? — спросил Шергин.
— Дак хто ж его знает, — машинист озабоченно потрогал изогнутый рельс. — Партизан вроде близко не водится, на сто верст вокруг. А через сто верст, в Залесовском, аккурат недавно завелись. Злые, говорят, как черти.
— Ремонтную артель вызывать надо, — убежденно сказал кочегар и сплюнул черной слюной в снег.
— Чем ее вызывать? Пер…ть в небо, пока услышат? — сварливо отозвался машинист. — Ждать обходчиков, а то самим топать до Сидоровки. Да починки еще на полторы сутки. Дён пять простоим.
— Сколько отсюда до Барнаула?
— Дак верст полсотни, — прикинул в уме машинист.
Круто развернувшись, Шергин пошел назад, выкрикнул нескольких младших офицеров и велел строить роты для походного марша.
Васька в купе дремал, уронив голову на стол и обнимаясь с заветной шкатулкой красного дерева.
— Ась? Партизаны? Где? — мутно уставился он на Шергина, разбуженный тычком.
К полудню маршевые роты выбрались из таежного туннеля в снежные поля, сливавшиеся на горизонте с белесым небом. Жидкий свет невидимого солнца казался разреженным, глаза быстро утомлялись смотреть в бесконечную белизну и невольно опускались, утыкаясь в спину впереди идущего или в ноги. За полтора часа бескрайнее поле снега высосало из людей все силы и настроило их на строптивый лад. Когда над ротами пронеслось возбужденное: «Жилье!» — Шергин почувствовал себя Колумбом, услышавшим со вздохом облегчения заветное «Земля!».
На поле стали попадаться убеленные вороха неубранного сена. Деревенские строения медленно выползали впереди из снегов, растянувшись в конце концов на половину окоема. Село было большое, из-за домов виднелась каменная бело-голубая колокольня.
— Гляди! Удирают!
По первой роте прошло движение, легкая крикливая суета. По приказу вскинулось несколько винтовок, щелкнули затворы, пукнули выстрелы. От края деревни к лесу позади нее скакали на конях четверо, сверкая белыми башлыками и по-разбойничьи заливаясь свистом. Пули пролетели мимо.
— Уйдут! Эх, уйдут, — переживал румяный поручик с побелевшим от мороза носом, выцеливая из револьвера убегающих.
Три выстрела один за другим отправились в пустоту. Четверо конных скрылись за высоким амбаром в конце села.
— Ушли, — выдохнул поручик и повернулся к Шергину. — А рельсы-то — как пить дать, их рук дело.
У входа в село роты встречала депутация крестьян во главе со старостой, высоким коренастым мужиком, из тех, что плечом заденет — убьет. С медвежьей фигурой и крепко посаженной на туловище головой не вязался его смиренный, виноватый взгляд, беспокойно убегавший все время в поле.
— Здравия желаем, — нестройным хором протянули мужики и посрывали долой шапки.
— Того же и вам, коли не врете, — ответил Шергин.
— Да што ж нам врать-то, помилуй Бог, — открестились мужики. — Чай, к совдепии пристрастия не имеем, сами нахлебались от большевицких нехристей.
— Ярушевский! — позвал Шергин. — Велите обыскать село. Авось, еще кто прыткий сыщется.
Староста, утопив голову в могучих плечах, с тоской проводил взглядом отряженных на обыск солдат.
— Прытких более нету, — прогудел он в бороду.
— А какие есть? — нахмурился Шергин.
Мужики выдали дружный вздох и опять сдернули шапки.
— Виноваты, вашбродь, бес попутал.
Староста снова пустил глаза пастись в поле.
— Мертвый есть. — И уточнил на всякий случай: — Один. Со вчерашнего в сарае лежит.
— Так, — сурово сказал Шергин, — думаю, разбирательство предстоит серьезное.
Староста рухнул на колени и взмолился, смяв в кулаке шапку:
— Вы уж разберитесь, вашбродь, а то ить они прискакали да как пошли лютовать, хуже красных, ей-богу. А мы что ж, мы грех на душу, обида у нас тово… свербеть стала. Что ж с нами как со зверьми, нешто мы не люди, не христьяне?
Не ожидавший покаянных жестов от медведеобразного мужика, Шергин на мгновение опешил. Потом обернулся к стоявшим позади ротным офицерам, приказал устраивать людей. Село моментально наполнилось шумной суматохой, солдатскими житейскими хлопотами и бабьей заботливой беготней. Трубы задымили гуще, куры раскричались громче, девок попрятали от греха и бани растопили.
…Разомлев в теплой избе и поборов сытую дремоту, Шергин вышел на крыльцо, вдохнул полную грудь сизого сумеречного мороза.
— Метель будет, — определил поручик Сыромятников, обозрев набухшую небесную мглу.
— Ну показывай, — помолчав, велел Шергин старосте.
Тот повел их в сарай, растворил нараспашку дверь, раскидал солому в углу и виновато потупился.
— Вот.
— Дай света.
Староста зажег масляную лампу. Сыромятников изумленно присвистнул.
Труп был в форме белого офицера, со штабс-капитанскими знаками различия. Изумленными глазами покойник смотрел в крышу сарая, будто силясь пронзить ее и устремиться мертвым взглядом в небеса. На виске кровавилась вмятина.
— Чем вы его? — спросил Шергин.
— Помяли малость, — смущенно пошевелился староста.
— Вижу, что помяли. Били чем?
— Так это… ничем. Ну… сапогом, может.
Староста замер, с внимательным испугом глядя на собственные яловые сапоги с подковками. Шергин посмотрел туда же, поднялся с корточек и вышел вон из сарая.
Пока осматривали труп, на улице в самом деле стало подвывать, затянула вьюга, острые кристаллы снега злобно принялись впиваться в лицо. Шергин быстро вернулся в избу.
— Дознаться, кто бил, и утром повесить каналий, — зло бросил Сыромятников.
Старостиха, не в пример мужу низенькая и такая же широкая баба, в страхе ойкнула и вымелась из горницы.
— Так они и скажут, кто убивал.
— Тогда собрать мужиков и каждого третьего… — уже не так уверенно предложил поручик. — Либо пороть всех. Так этого оставлять нельзя. Это же крамола. Бунт!
— Погодите вы, поручик. Нынче не девятнадцатое столетие, чтоб из мужиков бунт плетьми выбивать. Послушать надо, что староста скажет… Где этого черта медвежьего носит? — в нетерпении воскликнул он.