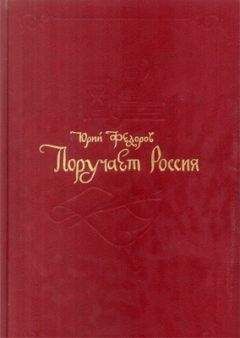«Мой сын! Понеже всем известно, какое ты непослушание и презрение воли моей делал и ни от слов, ни от наказания не последовал наставлению моему, но, наконец, обольстяся и заклинаясь богом при прощании со мною, потом что учинил? Ушел и отдался, яко изменник, под чужую протекцию, что не слыхано не точию междо наших детей, но ниже междо нарочитых поданных, чем какую обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству своему учинил.
Того ради посылаю ныне сие послание к тебе, дабы ты по воле моей учинил, о чем тебе господа Толстой и Румянцев будут говорить и предлагать. Буде же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаю богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься. Буде же сего не учинишь, то, яко отец, данною мне от бога властью проклинаю тебя вечно, а яко государь твой, за изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцов, учинить, в чем бог мне поможет в моей истине».
Писал Петр, не отрывая пера от бумаги. Писал быстро, но с каждым словом, казалось, из него уходили силы. Когда положил перо, боль в низу живота была нестерпимой. Казалось, воткнули под ребра тупой нож и ворочали в теле без жалости.
Денщик присыпал написанное песком, стряхнул бумагу. Петр сидел, прижав ладони к животу, словно дыру зажимал. Так было полегче. Когда приступ стих, царь взял в плохо слушающиеся пальцы перо, сказал сквозь зубы:
— Положи письмо. Я подпишу.
И криво и косо черкнул внизу листа: «Птр». На большее сил не хватило. В тот же день царя отвезли в Спаа на лечебные воды. Петр был совсем плох.
За монастырскими стенами спать ложатся рано. Вечерний колокол отзвонит, и, перекрестивши лоб, смирный человек глаза закрывает. Будет еще день, и богу молитву отдаст.
Колокол отзвонил. Тишина разлилась над монастырем. Травы побелели. Упала вечерняя роса.
Черемной у монастырской стены дрожал от холода. Руки ходуном ходили. От земли тянуло сыростью. Продрогнешь. Где-то осина скрипела, лопнувшая от лютых морозов зимой. Ни звука больше.
И вдруг: тук-тук… Застучало металлом о камень под аркой монастырских ворот.
Тук-тук-тук… И ближе, ближе. Черемной навострился. Но черно у стены. Ничего не разглядишь.
И опять: тук-тук-тук…
Федор качнулся, шагнул на тот стук. Увидел: из ворот монастырских тенью скользнул человек. И по камню клюки звонкие: тук-тук-тук.
Черемной пошел следом. Человек впереди поспешал. Федор хмыкнул: «Эх ты… Голый Иван. Достиг все же я тебя».
Взбодрился. На ходу-то потеплее стало. Да и дождался своего: значит, не зря дрожал под стеной. «Долго же ты бегал, Иван Голый, — подумал, — а поди ж ты, встретиться все же пришлось. Верно говорят: сколько ни виться веревочке, а конец будет».
…Лет десять назад на Ярославской дороге шалить начали неведомые люди. То одного купчишку встретили — деньги отняли и коней, то другого. Ну, думали, уйдут шалуны. А воровство росло. В одну из ночей тати, совсем страх потеряв, приступом взяли богатый целовальников двор, добро растащили, а людей побили. И детей, совсем малых, тоже побили.
Ярославская дорога к Троице ведет. Места святые, а тут такое кровопролитие. Разбойный приказ на Ярославскую дорогу послал стрельцов, и они изловили татей. Привезли в Москву, и воровскому делу был назначен розыск. Федор Черемной в розыске том был. Записывал воровские речи.
Татей ломали без пощады. Детей побитых простить не могли. Но воры держались крепко. Особой дерзостью при пытке отличился Голый Иван — мужик, невесть откуда под Москву явившийся и татей тех собравший. Визжал Голый на дыбе, харкал кровью в лица ведущим розыск, но так ничего и не сказал. Установлено все же было, что детей побил он своими руками и деньги целовальниковы он же спрятал.
Стали готовить для него колесо со спицами — орудие пытки страшное. На спицах и железные говорили. Но когда пришли за Голым в подвал, лежал он бездыханный. Колесо было ни к чему.
Голого бросили в сарай к побитым сотоварищам. Но наутро мертвое тело татя не нашли. И вот Голый объявился. В монастырском юроде Федор его признал.
Юрод впереди клюками стучал. Шел смело, в тень не хоронился. Поперек согнутый человечишка-то, но клюки перебирал ловко. Вдруг Голый в сторону подался. Домишко стоял у дороги. К нему юрод и шагнул. Хозяином калитку отворил, вошел во двор. Заборишко вокруг дома плохой: курица перешагнет. Федору все было видно. Да Черемной еще и к самой огородке приткнулся, стал у столбика.
Юрод потоптался во дворе, дверцу какую-то отворил, и Федор услышал, как клюки по ступеням застучали. И так тише, тише и смолкли. Черемной понял: Голый в подпол спустился.
Баба на крыльцо вышла. Помои выплеснула из ведра. Зевнула на луну. Рот перекрестила, ушла. Черемной еще постоял и перевалился через забор. Прошел к подполу. Ступеньки вниз Вели, и там, внизу, в щель дверную свет пробивался. Федор неслышно шагнул на ступеньки. Умел Черемной и так ходить. До дверки спустился и чуть ладошкой мягкой дверку толкнул. Не знал, однако, что петли ржавые. Они и скрипнули.
Голый у свечи сидел согнувшись. Не поднимая головы, спросил ясно:
— Ты, Прасковья?
Федор не ответил. Ждал, пока Голый поднимет голову.
— Чего тебе? — повернулся тот.
— Ошибся ты. Не Прасковья к тебе пришла, — негромко, но со значением сказал Черемной.
Юрод вскинулся:
— Кто таков?
Рукой глаза от свечи заслонил. Так же тихо Черемной сказал:
— Ты не признаешь меня, а я тебя признал, Голый Иван. И словами теми как палкой ударил. Юрод к клюке метнулся.
Черемной остановил:
— Сядь. Я сломаю тебя. Силы у тебя не те, что были. Сядь… И юрод сел. В глазах у него вспыхнул огонек свечи. Дикие глаза были, кошачьи. Но Черемной на то внимания не обратил. Обошел свечу и стал напротив Голого:
— Поговорим.
Взглянул: что там, у свечи, юрод ковырял? Вокруг свечи лежали медяки. Но много, горкой.
— Что? — спросил Черемной. — Все копишь деньгу-то? — Скривил рот: —А зачем?
Голый молчал.
— Ладно, — сказал Черемной, — привет я привез тебе от отца протопопа церкви Зачатия Анны в Углу.
У юрода по лицу судорога вроде пробежала, и он клюку швырнул в угол. Хохотнул, как всхлипнул:
— А напугал-то, напугал… Вот напугал…
— Ты не веселись прежде времени, — сказал Черемной, — спроси лучше, откуда мне имя твое известно? Ярославскую дорогу помнишь? Целовальника помнишь? Детей его, тобой побитых, помнишь?
Юрод попятился в угол. Крестом обмахиваясь, зашептал:
— Свят, свят…
— Не гнуси, — оборвал его Черемной, — то для глупых оставь. Садись! Спрашивать тебя буду, а ты отвечай.
Голый Иван рассказал, что старица Елена живет в монастыре не по обычаю монашескому и иноческих одежд не носит. Сказал, что ходят к ней люди разные. Дворяне окрестные наезжают. И которые издалека также бывают. И еще сказал, что старица Елена многажды к себе пускает, днем и по вечерам, Степана Глебова.
— А то зачем? — спросил Черемной.
— По бабьему делу, должно.
— Тьфу, — плюнул Черемной. — Ты говори, кто тот Степан Глебов?
— Капитан. Послан в Суздаль для рекрутского набору.
— Так, — протянул Черемной, — а письма, письма в Москву старица посылала?
— Носили письма.
— Об Алексее, царевиче, сыне своем, какие речи говорит?
— Не ведаю.
Нагнул голову, пряча лицо. Понимал: то похуже целовальникова воровства. Здесь за спицы сразу возьмутся. Тянуть не будут.
— А ты что кричал у церкви Анны в Зарядье, что здесь, в Суздале, на паперти выл?
— Не помню, без памяти был. Позвонки у меня поломаны, мысли заходятся.
— Вспомнишь, — сказал Черемной и поднялся, — все вспомнишь. Позвонки мы тебе враз вправим. — Шагнул к лестнице. Сказал еще: — Сиди. И из монастыря не высовывайся. Протопопу от тебя я слова передам.
Погрозил глазами и вышел. Решил так: Ивана Голого отдавать сейчас власти, чтобы заковали в железа, рано. И так будет сидеть молча. Напуган вдосталь. Клубок же весь — и монастырский, и протопопов — не его, Черемного, дело шевелить. То большим людям под силу. К светлейшему князю Меншикову идти надо, и идти не мешкая.
Царевич Алексей встретил Толстого стоя.
Петр Андреевич неловко зацепился в дверях шпагой, но поправился и шагнул к царевичу бодро. Согнулся в поклоне низком. К наследнику пришел престола российского, спину жалеть не приходится. Румянцев у дверей застыл и по чину офицерскому руку к треуголке поднес.
Петр Андреевич выпрямился и только тогда в лицо наследника взглянул. Где-то в чреве у Толстого жилка малая дрогнула: черты Петровы он угадал в Алексее сразу.
— Здравствуй, ваше высочество, — сказал Толстой совсем по-домашнему, мягко, как если бы те было говорено в Москве, а не в далеком замке Сант-Эльм у неведомого многим Неаполитанского залива, в чужом городе.