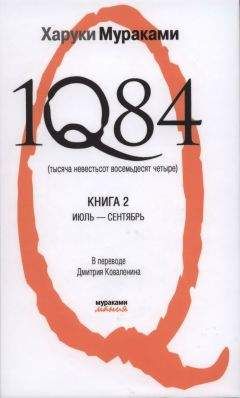Он снова попробовал было заговорить о правительнице, но Петр решительно остановил его.
— Не говори, — сказал он, — мне и думать-то о ней теперь не хочется.
Лефорт замолчал, с грустью помышляя, что юноша только похорохорился, что он не готов к серьезной борьбе, что в решительную минуту он испугается, отступит, забудет свои благие намерения. Но Лефорт ошибался.
На следующий же день Петр доказал твердость своего решения и открыто бросил сестре перчатку.
По случаю праздника Казанской Божьей Матери в Кремле была торжественная служба и крестный ход.
По окончании обедни Петр подошел к правительнице, которая брала икону, чтобы принять участие в крестном ходе.
— Сестра, ты, кажется, хочешь идти? — сказал он.
Она вздрогнула от его голоса, который ей показался каким-то новым и странным.
— Да, конечно.
— Нет, не ходи, тебе не след идти — это вовсе не женское дело.
Она невольно попятилась.
Петр стоял во всем величии свой красоты и богатырского роста. Стоял с гордо откинутой головою, прямо и смело глядя на нее своими орлиными глазами.
До сих пор он ей представлялся ребенком, шалуном, мальчишкой, который только и думает, что о забавах, которого спаивают потешники да немцы; но теперь перед нею вовсе не мальчишка, теперь перед нею человек, уже сознающий свою силу, перед ней венчаный царь земли Русской… Ребенок вырос. И вот этот венчаный ребенок хочет и может доказать, что ему время приспело самодержавно царствовать: нянька не нужна больше.
Страшная злоба, смешанная с отчаянием, забушевала в груди Софьи. «Он ей запрещает… ей, которая до сих пор не ведала над собою ничьей власти… Неужели она поддастся? Неужели она дойдет до такого унижения, что станет исполнять его приказания?.. Нет… это еще посмотрим!.. Не слишком ли рано ты поднял голову!.. Обожди еще немного».
— Пропусти меня, — в свою очередь гордо и смело смотря на брата, сказала Софья. — Сама я знаю, что делаю и что мне нужно делать!
Она взяла икону и пошла с крестным ходом.
Петр, не говоря ни слова, вышел из собора и сейчас же уехал в Преображенское.
Многие видели сцену между братом и сестрою, и все без исключения, конечно, заметили, что молодой царь не принял участия в крестном ходе, что он скрылся.
Пошел говор, перешептывания, волнение.
— Орленок расправляет крылья!.. — донесся до слуха Софьи чей-то голос; на многих лицах она подметила радость.
Едва владея собою, едва держась на нотах, бледная, как смерть, сопутствовала она крестному ходу.
Мрачный и взволнованный одиноко бродил по своим палатам князь Василий Васильевич Голицын. Его ожидание, его предчувствие начало сбываться. Теперь он знал, что пришел час его страшный, что еще несколько дней, может быть, и конец всему — погибнет и он, погибнет и царевна.
Сначала он опасался вражды бояр, он немного думал о Петре Алексеевиче; к тому же он надеялся, что у Петра есть ему надежный защитник — двоюродный брат, князь Борис Голицын. Но надежда эта оказалась тщетною.
Петр каждый день то тем, то другим давал знать о себе. Когда ему принесли подписать список наград Голицыну и его товарищам за последний Крымский поход, юный царь решительно объявил, что ни за что не подпишет этого списка, что не награждать стоит воеводу, а напротив, судить за его неразумные действия во время похода, за позор и стыд, учиненные этими действиями государству.
Положим, эта опасность миновала; Петра таки уговорили добрые люди: он подписал назначение наград. Но вот сегодня, когда Голицын со всеми генералами поехал к нему с благодарностью, он их не принял и даже так прямо велел сказать, что видеть их не хочет.
Князь Василий Васильевич едва доехал до дому и теперь не может в себя прийти от этой обиды, о которой, конечно, уже трубят по всей Москве.
И тем мучительнее отзывается поступок государя в сердце Голицына, что он сознает себя виноватым и униженным, сознает, что Петр прав, что поделом неразумному воеводе царская немилость. Будь у него сознание своей правоты, он бы не упал духом; но теперь тошно ему глядеть на свет Божий, и мечется он, как зверь в клетке, по этим самым палатам, где широко и привольно текла жизнь его, тде зрели ето лучшие планы, где свили себе гнездо счастье его любви, его слава.
Как он любил прежде эти палаты, с какой заботливостью украшал он их, помышляя о тех редких блаженных минутах, когда сюда неслышною стопою являлась красавица царевна! Противной, невыносимой, раздражающей кажется теперь Василию Васильевичу эта роскошь, которая его окружает. А роскошь великая… Один из иностранных посланников писал о доме Голицына, как чуть ли не о самом великолепнейшем в Европе, что он думал, будто находится при дворе какого-нибудь итальянского государя.
Особенно хороша приемная палата, где обыкновенно Василий Васильевич беседовал с приезжавшими к нему боярами и иностранцами, которых он всегда поражал своею обходительностью, своими глубокими знаниями, где он разговаривал с ними на языке латинском обо всем, что происходило тогда важного в Европе. Палата эта обширна, какой, пожалуй, и нету во дворце кремлевском. Подволока в ней накатная, прикрытая холстами. В середине подволоки солнце с лучами, вызолоченное сусальным золотом. Вокруг солнца боги небесные с зодиями и с планетами, писанные живописью. От солнца на железных трех прутах паникадило белое костяное о пяти поясах, в поясе по восьми подсвечников, и цена тому паникадилу сто рублей.
По другую сторону солнца месяц в лучах посеребренных. Вокруг подволоки в двадцати клеймах резных, позолоченных, расписаны лики пророков и пророчиц. В четырех рамах резных листы немецкие; цена каждому листу по пяти рублей.
По всем стенам, кроме того, портреты: великого князя Владимира Святого, царей: Ивана Грозного, Федора Ивановича, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора, Ивана и Петра Алексеевичей, четыре портрета королей иностранных. Между портретами пять зеркал, одно в черепаховой раме.
Окон в той палате сорок шесть со стеклянными оконцами, и в них стекла расписаны хитрым узором и разными человеческими фигурами.
Хороша тоже и спальня Василия Васильевича: в ней развешаны в вызолоченных рамах разные карты и чертежи, вывезенные из-за границы, четыре зеркала, две большие статуи, изображающие арапов; дорогая кровать немецкая, из резного сквозното ореха вырезана, на ней личины человеческие, и птицы, и травы; девять стульев, обитых золотыми кожами, кресло с подножием, обитое бархатом.
По всем палатам множество часов боевых и столовых в черепаховых влагалищах, оклеенных китовым усом да кожею красною. Особенно хороши одни часы бронзовые, тонкой художественной работы, изображающие немчина на коне, а в лошади циферблат со стрелками. Много всяких чудных шкатулок с бесчисленными выдвижными ящичками, чернильница янтарная, три немецкие фигуры ореховые; у них внутри трубки стеклянные, с медными мишенями; на мишенях вырезаны слова немецкие, а под трубками в стеклянных чашечках ртуть.
Но не одними этими хитрыми безделушками забавлял себя Василий Васильевич. Дорогою ценою приобретал он книги разные и составлял себе библиотеку. Были в этой библиотеке такие книги: книга писанная — вручение правила на Академию; книга писанная о гражданском житии, или о правлении всех дел, яже надлежат обще народу. Книга Тостамент или завет Василия, царя греческого, сыну его Льву Философу; книга, како царица Олунда близнят породи и како их свекровь и ее мать цесаревна хотя погубити. Книга письменная перевод от Вселенского патриарха Мелетия диакона; книга, глаголимая алкоран Махметов, переведенная с польского письма; книга рукописного права, или устав воинский Голландской земли, — и много всяких других, как русских, так немецких и латинских, трактующих о всевозможных, самых разнообразных предметах.
В часы досуга любил Василий Васильевич углубляться в эти книги, и бывало за чтением не видит, как идет время. Иногда он вместе с царевною читал и объяснял ей то, чего она не понимала, и дивился, что мало объяснять приходилось, дивился ее великим знаниям, ее необычайной понятливости и любознательности.
Куда теперь девалось это счастливое время? Разразится гроза, возрадуются недруги и друзья лицемерные, разнесут и растащат все эти с такой любовью собранные сокровища. Но Бог с ними, не в них дело — отнимут враги единственное сокровище, которому придает Василий Васильевич неисчислимую цену, без которого жизнь не в жизнь ему кажется, отнимут враги ту, которая красила своею любовью многотрудную жизнь его, и что они с ней сделают? Теперь не будет ей пощады!
И он стал думать о правительнице. Он вспоминал далекие годы, вспоминал ее еще почти ребенком, потом чудной, пышно расцветшей красавицей, вспоминал то волшебное мгновение, когда она отдала ему свое сердце. Господи, как это все далеко, как будто сон! Что воды утекло с тех пор! Тогда он еще был полон сил и смело глядел в будущее, а теперь расшатались его силы, вся побелела, заиндевела густая борода его, многие морщины глубокие на высоком челе вырезались… Изменилась и она, прекрасная царевна. Он только в эти последние дни хорошенько разглядел, как она измучилась, как она постарела. Но для него она так же прекрасна, как и в лучшие дни цветущей молодости. Так же горячо, так же страстно он ее любит — для любви этой бесследно оказалось время.