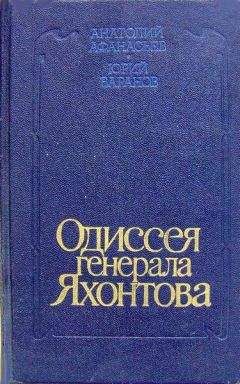Но — не хватало живых свидетельств, ах как не хватало! Ах как жадно искал Яхонтов встреч с такими счастливцами, побывавшими на советско-германском фронте, как Эрскин Колдуэлл. И конечно, с советскими людьми — журналистами, инженерами, приезжавшими в США по делам ленд-лиза, и такими необычными и такими редкими гостями, как потрясшая всю Америку женщина-снайпер Людмила Павлюченко.
А однажды Яхонтов встретился с человеком, бывшим на советско-германском фронте «с той стороны». Да с каким человеком! Он его давно уже знал, правда, заочно. Это был шведский журналист Рагнар Стром. Виктор Александрович еще в канун войны приметил этого обозревателя, выступавшего по шведскому радио на английском языке и чьи материалы обычно перепечатывались многими газетами. Вскоре после Сталинграда журналистские дороги привели энергичного шведа в Америку. В Нью-Йорке с ним случайно познакомили Яхонтова. Рагнар Стром оказался, как и положено шведу, голубоглазым блондином со свежей кожей молочно-розового цвета. Ему было под сорок, но выглядел он гораздо моложе. Строму польстило — а какому журналисту это бы не польстило! — что известный американский лектор широко пользуется его статьями и выступлениями (Яхонтов записывал их на магнитофон), Когда они остались вдвоем, Стром задал неожиданный вопрос:
— Судя по фамилии, вы русский. По-русски говорите?
— Разумеется.
— Если вы не возражаете, мы могли бы продолжить беседу на моем наполовину родном языке, — сказал Стром на безупречном русском. — Мой отец швед, а мама — русская. Я и родился в России. Мое детство прошло в Петербурге…
— Мое тоже! — воскликнул Яхонтов.
— Рад встретить земляка, — учтиво поклонился Стром.
Вскоре они уже сидели дома у Яхонтовых, и Виктор Александрович с Мальвиной Витольдовной слушали рассказы интересного гостя.
— Моего покойного отца — он был лингвистом звали Кнут. И моя няня, русская крестьянка, тетя Пелагея, пела мне в детстве, баюкая, «Футыч-путыч, Рагнар Кнутыч»…
Но не о милых пустяках, конечно, шла в основном беседа. Яхонтов осторожно, тщательно подбирая слова, спросил, почему Рагнар Стром побывал на Восточном фронте не с советской, а с немецкой стороны. Виктор Александрович почему-то сразу проникся доверием к молодому шведу и не допускал мысли, что у того могут быть пронацистские симпатии. Почему же тогда он как военный корреспондент выбрал гитлеровскую сторону фронта, ведь как нейтрал он в принципе мог бы попроситься и на советскую сторону.
«Рагнар Кнутыч» белозубо усмехнулся:
— Пусть пока наша беседа останется между нами, Виктор Александрович. Сейчас вы поймете меня и, надеюсь, похвалите мою дальновидность… В самом деле, я как нейтрал в принципе мог бы обратиться за визой и к госпоже Коллонтай. Но я обратился в Берлин. Кстати, меня принимал сам Геббельс… Для чего мне это нужно? Сами понимаете, порядочный человек не может быть с ними. Вот именно поэтому я и поехал в рейх.
— Я не вполне понял вас… — начал было Яхонтов.
— Не говорите так осторожно… Пока вы не поняли, но сейчас поймете. Я сказал себе: Рагнар, когда кончится война и о ней начнут писать не журналисты, а историки и беллетристы, им потребуется объективная информация, собранная порядочными людьми. И я сказал себе: Рагнар, с русской стороны такой информации будет много. Ее напишут и сами русские, и их союзники. Разве плохо пишет мистер Колдуэлл? А кто даст такую информацию с фашистской стороны? И я попросил прикомандировать меня к вермахту. Я Даю то, что их устраивает, — смею надеяться, не совсем неприличное. Однако главное пока не опубликовано. Ибо если я выступлю с этим сейчас, мне будет закрыта дорога в рейх…
— Ну вы молодец! — восхитился Яхонтов. А Мальвина Витольдовна задала вопрос, который она всегда задавала мужу, когда он возвращался из путешествий:
— Что больше всего из увиденного там потрясло вас?
Швед грустно улыбнулся:
— К сожалению, там слишком много потрясений, ужаса, грязи… Простите, но я отвечу на ваш вопрос в своей будущей книге.
Стром помолчал, желваки заходили под его щеками:
— Страшно подумать, господа, как трудно там, на фронте, русским солдатам. Как страшно в осажденном Ленинграде. По сравнению с их страданиями наши трудности — пустячные. Но поверьте, мне тогда нелегко было оставаться безучастным шведом, нейтралом. Иногда я ненавижу это слово.
Ах, Рагнар Кнутович, Рагнар Кнутович! Знать, и тебе ведома русская совестливость. Так вот, западный нейтрал…
Яхонтов, проводив гостя до такси, долго не мог успокоиться в тот вечер. Он хотел было готовиться к лекции, но все валилось из рук. Как глупо проходит жизнь! Его место там — на фронте, на той войне, где гибнут его земляки, где в нечеловеческом напряжении держит оборону его родной город. Да что стоят его лекторские триумфы здесь, в далекой обожравшейся Америке. Даже второго фронта еще нет, несмотря на все митинги и петиции.
Да, были такие минуты и часы, особенно ночью, часто в дороге, когда сил не было вынести терзания по поводу своей эмигрантской судьбы. Роковые решения семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого годов проходили перед судом его совести, суд тот был суров. Он сам обрек себя на ту жизнь, которую он доживает. Природа не обидела его — он физически и психически здоров, получил образование и воспитание. Его не высылали из страны, не сажали в тюрьму. Он все выбрал сам. И все же, думалось, вот бы тогда, в сентябре семнадцатого, заболеть и не поехать в Петроград. И не был бы он «из компании Керенского». Не был бы генералом — ну и пусть. А где гарантия, что он, не выезжая из Японии, понял бы смысл Брестского мира и не проклял бы большевиков издалека, подобно остальным? Нет, Виктор Александрович, из песни слова не выкинешь. Стисни зубы и воюй. Здесь воюй, раз сам себя лишил возможности заниматься главным делом. Так хотя бы третьестепенное делай хорошо. Неси крест своего успеха.
На следующий день вечером элегантный, моложавый, излучающий оптимизм и компетентность, выступая в фешенебельном клубе, он говорил (газеты сохранили нам эту цитату):
— Когда наши потомки будут изучать вторую мировую войну и попытаются силой своего воображения представить, что происходило в эти дни, то никакое другое имя не будет произноситься с такой благодарностью, как Россия!
Несколько слов о перемене метода
За десять дней до начала Великой Отечественной Виктору Александровичу Яхонтову исполнилось шестьдесят, за две недели до Парада Победы — шестьдесят четыре. Когда речь шла о годах становления его личности, думается, было оправданным строго последовательное изложение событий. Нужно было показать, как они, наслаиваясь одно на другое, изменяли нашего героя, делали из него того человека, каким он в конце концов стал. Это «в конце концов», разумеется, не какая-то четко проведенная черта. Но, думается, в канун войны и в ее начале Яхонтов окончательно сформировался. И пусть не звучит это странным для шестидесятилетнего человека. Такая уж у него была необычная судьба.
Яхонтов выстрадал ясность своего дальнейшего пути. И наступившая для него ясность позволяет нам отойти от строго последовательного и подробного изложения событий его жизни, сосредоточив внимание на происходивших в нем внутренних процессах. Тем более что в отличие от эмигрантских метаний его деятельность в годы войны в общем и целом понятна и известна читателю. Есть немало книг и статей, в которых рассказывается о деятельности в годы второй мировой войны прогрессивных американцев, одним из которых и был генерал Яхонтов. Сохранились сведения, что в 1942 году он прочел 220 лекций. Не перечислять же 220 городов, в которых он выступал! Читателю, несомненно, известно о благородной патриотической активности прогрессивной русской эмиграции в годы войны. О том, в частности, что в 1944 году на собранные ею деньги был построен военный самолет «Дух Ленинграда». Эти деньги собрали члены АРОВ — Американо-русского общества взаимопомощи, одним из активных членов которого был Яхонтов. Но, надо повторить, главным его делом были, конечно, лекции.
Вместе с другими патриотически настроенными русскими эмигрантами Яхонтов жил теми событиями, которые происходили на Родине. Все годы войны его не покидало ощущение, что он — там, что он лично участвует во всем, что делается с Россией. Коварное нападение Гитлера, горечь отступления, Смоленское сражение, битва за Москву, блокада Ленинграда, Сталинград, Курск, наступление, освобождение земли Отечества и порабощенных нацистами стран, Победа. Рассказ о реакции Яхонтова на эти события излишен. Но надо упомянуть о событиях, которые волновали прогрессивных русских американцев в целом, а некоторые — и лично Яхонтова.
К последним следует прежде всего отнести доходившие до Виктора Александровича вести о судьбе маршала Шапошникова. Знакомые по дореволюционной службе, они были почти ровесниками (Борис Михайлович немного моложе). Яхонтов специально запрашивал уезжавших в Москву корреспондентов и дипломатов сообщить ему что-либо о Шапошникове. Видимо (сейчас уже этого никто не скажет), Яхонтов как бы примерял к себе судьбу маршала — выходца из старых офицеров. Яхонтов смог узнать (а это по вполне понятным причинам не делалось предметом широкой гласности), что Борис Михайлович тяжело болен туберкулезом, что именно болезнью, а не чем иным, связан его уход с поста начальника Генштаба. Яхонтов был растроган, когда в разгар тяжелейших боев 2 октября 1942 года (немцы рвались к Волге) советские газеты опубликовали приветствие ЦК ВКП(б) и Советского правиттельства Б. М. Шапошникову в связи с 60-летием. Со слезами на глазах слушал Яхонтов Москву, когда за несколько недель до конца войны радио передавало сообщение о похоронах Бориса Михайловича. «Армия и флот Советского Союза, — зачитывал диктор слова Сталина, — склоняют свои боевые знамена перед гробом Шапошникова и отдают честь одному из выдающихся полководцев Красной Армии». Когда урну с прахом маршала устанавливали в Кремлевской стене, 124 орудия произвели 24 прощальных залпа. А потом помощник посла Гарримана рассказал Виктору Александровичу, что на похоронах маршала Шапошникова плакал человек, о котором думали, что он не умеет плакать, — Сталин.