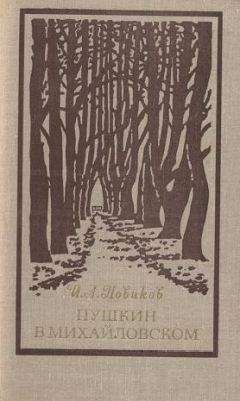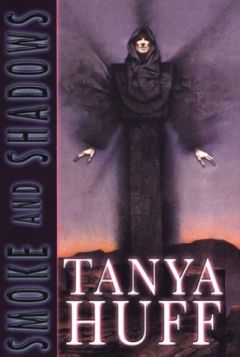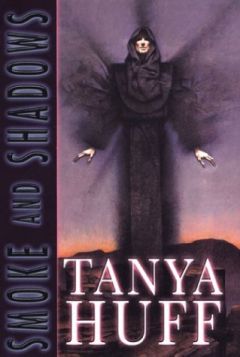Вы завлекли меня! Что делать было мне,
Мне, верному любви, стихам и тишине…
И вспоминался Пущин опять: «Я думаю, это возможно не раньше, как лет через десять». По своему теперешнему ощущению, вопреки предчувствию Михаила Федоровича Орлова, он удлинил бы и этот срок, ибо не видел еще подлинной силы, способной опрокинуть самовластие, и еще того менее теперь был уверен в себе, в своей личной пригодности для этого дела. Его Андрей Шенье, с которым как бы порою сливал он себя, спрашивал с горечью:
Мне ль было управлять строптивыми конями
И круто напрягать бессильные бразды?
Но за минутным безверием следовал взрыв подлинной силы, и обреченный на плаху провозглашал как власть имеющий:
О нет!
Умолкни, ропот малодушный,
Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет…
Образ поэта, певшего свободу и не нашедшего для себя ее осуществления, павшего на гильотине, казался ему, когда заглядывал не в одно только прошлое, но и в возможное будущее, близким и родственным. Старого монарха он помянул потому, что Шенье был исторически связан с ним, а кроме того, это делало появление в печати стихов самого Пушкина хотя бы призрачно возможным, но главное дело было в другом. Его свобода глядела дальше. Он не поддавался угнетающим мыслям и устами героя — об идеале свободы своей и о народе, который жаждал ее, — говорил с уверенностью:
Так — он найдет тебя. Под сению равенства
В объятиях твоих он сладко отдохнёт.
Так буря мрачная минёт!
Казалось бы, пасха с ее колокольными звонами, куличами и красными яйцами, христосованьем и качелями на дворе, песнями, пляской должна была Пушкина оторвать от его дум. И действительно, живо во всем он участвовал сам, но как-то, не докликавшись раз, чтобы ему оседлали коня, зашел он на кухню и, войдя, даже забыл, зачем он зашел.
Там шла азартная игра в засаленные карты. Играли «в носки» и средневековый «бардадым»; винновый король не однажды решал страстную партию, и по носам вдохновенно трепали старой колодой. Пушкин залюбовался: это был уже не шестнадцатый век, а скорее всего — черти в аду! Яростно трещали дрова в огромной русской печи. Огибая кипевший котел, порой вырывалась наружу широкая лента сизого дыма, смешиваясь с пахучими облаками терпкой махорки; пахло разопревшей овчиною, потом и шибко выдыхаемой водкой и луком. Добродушный и сдержанный садовник Архип кривлялся и строил рожи, не уступая никому другому; косой его глаз дико и воспаленно сверкал. Никто не увидал вошедшего барина, словно бы это было не на пасху в русской деревне, да, пожалуй, и вообще не на поверхности нашей планеты, а глубоко в ее недрах: истинно черти! И сам Пушкин себя чувствовал вовсе не Александром Сергеевичем, а может быть, Фаустом, прилетевшим сюда на дьяволовом хвосте. Поэма, пронизанная насквозь огнем ищущей и ни перед чем не отступающей мысли, пленяла его в эти дни с особенной силой, и в нем самом глухо где-то уже зрело ответное эхо. Он постоял у притолоки и вышел, так никого и не окликнув.
На грубом листе серой бумаги несколько позже, как только этот кошмар в нем прояснился, он набросал разрозненные отрывки какой-то вскипевшей в тот час «адской поэмы»:
«Что козырь?» — «Чэрви!» — «Мне ходить».
«Я бью». — «Нельзя ли погодить?»
«…Привел я гостя». — «Ах, создатель!..»
«Вот доктор Фауст, наш приятель!»
«…Что горит во мгле?
Что кипит в котле?»
«Фауст, ха-ха-ха!
Посмотри, уха:
Щука ли, цари —
О, вари, вари!»
Это варево из царей вместе со щуками закипало в Пушкине вовсе не редко: та самая «царей судьба», которую в «Онегине» из-за цензуры со вздохом он заменял «судьбою и жизнью».
Барон был верен себе: в субботу на святой не появился и ничего не писал. О Дельвиге спрашивали и в Тригорском, и Евпраксия уже его представляла, далеко откидываясь в кресле и вытягивая ноги: ей это было приятно, потому что шерстяные чулки, надоевшие за зиму, наконец были сняты и голубые ножки ее самой ей казались красивыми. Одну руку она отводила несколько в сторону — будто бы в ней была трубка, другая покоилась на животе.
— Похож?
— Да как ты смеешь, Зизи! — сердилась и улыбалась мать; но Зизи смела все.
— Вы говорите: уж жив ли? А я на кухне слыхала, что если по живому отслужить панихиду, тут он и стукнет в окошко! Вы испытайте.
Пушкин очень смеялся выходкам девочки, впрочем, все больше и больше становившейся девушкой. Пожалуй, теперь она еще смелее дерзила, но под этим все чаще угадывалось, что простодушие прежнее сменялось каким-то смутным томлением. Пушкин писал иногда шаловливые записочки уехавшей Нетти, той самой, которая будто бы прислала ему стихи, и отдавал их Евпраксии, чтобы она пересылала, когда сама будет писать. В семье это не было новостью: так же и Анна писала для Льва через Ольгу Сергеевну; подобная тайна придавала письмам особую волнующую прелесть. Пушкин и сам кое-когда вплетался в интригу и дразнил чувствительную Анну: только недавно он сжег перед нею, не прочитав ей, фривольную записочку Льва, присланную через него. Но Евпраксия просто священнодействовала, ее по-настоящему волновало, что переписка шла через нее и она соучастница тайны.
Под болтовню девочки о покойниках и панихидах он вспомнил о Байроне: завтра была как раз годовщина. Еще утром в тетради на внутренней стороне переплета ему бросилась в глаза эта запись, сделанная в Одессе под свежим впечатлением вести о его гибели в Греции.
— Анета, знаете что, — сказал он попозже, когда случайно остались они с Анной наедине, — завтра день смерти Байрона. Отслужим по нем панихиду: вы у себя, я у себя.
Она подняла на него свои большие глаза. Пушкин не часто дарил ее вниманием, и не знала сейчас: шутит иль вправду?
— Вы шутите?
— Да. Но и нет, не шучу.
— Как вас понять?
Голос ее несколько дрогнул. Этот вопрос прозвучал шире и глубже: как ей вообще понять Пушкина… Она носила в себе такую полноту нежности и обожания, что с его стороны довольно бы было одного только слова, и она, как слеза, упала бы ему на грудь. Однако же этого Пушкин как раз и избегал. Оттого-то так хорошо и было в Тригорском, что именно ничем и никак не чувствовал он себя связанным больше, чем хотел того сам. Но все ж на минуту стало ему ее жаль.
— Видите что: моя панихида, может быть, будет и маскарадом, — грешник молит за грешника, а ваша молитва должна быть свята.
Анна поднесла платок к глазам и убежала. Пушкин был истинно ею растроган, но это не помешало ему, сыграв несколько робберов в вист и проиграв Прасковье Александровне рубля полтора, шепнуть на прощанье Евпраксии с самым лукавым и отчасти таинственным видом:
— А когда служат панихиду по настоящему покойнику, то и он может прийти. Смотрите, как бы вам Байрон не стукнул в окошко!
В Ворониче он завернул на Поповку и, не слезая с лошади, сам постучал плетью в окно.
— Дома отец Ларион?
На стук его вышла шести-семилетняя девочка; было уже около девяти часов, но она еще не ложилась.
— Отец у себя?
— Батюшка дома.
Шкода, как и всегда, засуетился, заахал, но тотчас и присмирел. На свече был нагар; потрескивала лампадка перед образами. На столе, не убранном скатертью, стоял полупотухший самовар и лежали городские сухие баранки. Тонкая книжка придвинута поближе к огню; Пушкин узнал: «Бахчисарайский фонтан»! Маленькая Акулинка стояла на половике, положив палец в рот.
— Неужели это она читает такую… светскую книжку?
— А что с ней поделаешь! Сладость стихов… Любит — и выпросила. А я виноват, согрешил, не устоял.
— Прасковья Александровна, что ли, дала?
— Под страхом смертной казни… чтобы сохранно.
Девочка вынула наконец изо рта палец, но все молча продолжала глядеть на Пушкина снизу вверх. Пусть он не был высок, но отец ее был еще меньше. Серый заплатанный подрясник, который он то и дело одергивал, лоснился на выступавшем его животе, только подчеркивавшем общую его худобу и костлявость. Глазки его засияли при виде любимого гостя; странное подобие дружества связывало этих столь несхожих людей.
Пушкин должен бы Шкоде не доверять, а Шкода — хитрить и выпытывать, но вместо того в их отношениях были и простота и открытость. Шкода, и хитрый, и изворотливый, никак не мог устоять против Пушкина, даже порою и сам, поддаваясь ему, нет-нет да и прегрешал какою-нибудь словесною вольностью против властей предержащих, тут же, впрочем, и оговариваясь с улыбкой, с ухмылкой, что, дескать, это так… по нищете духовной своей, по «неразумию».
Шкода был очень чувствителен только к религии, но и тут он так был забавен, что было как раз любопытно его поддразнить. Скажет что-нибудь гость, какую-нибудь «неподобную вещь», а Шкода уже воздымает свои руки горе и как бы заклинает (всегда троекратно):