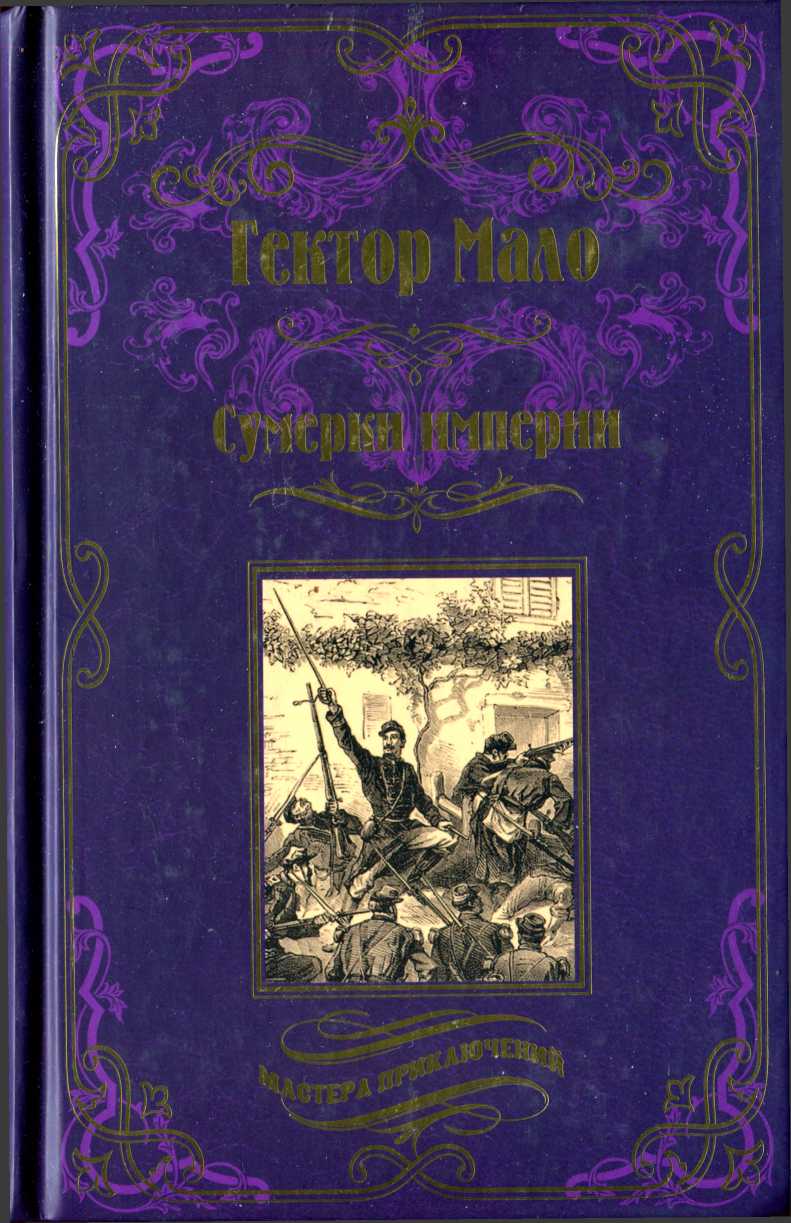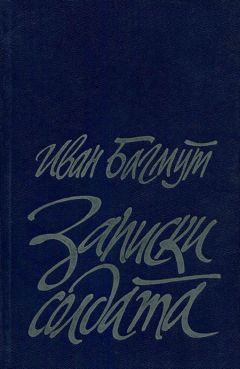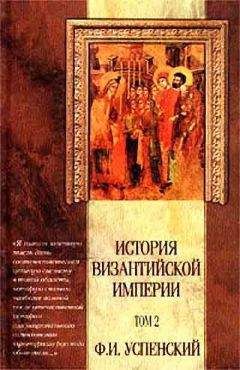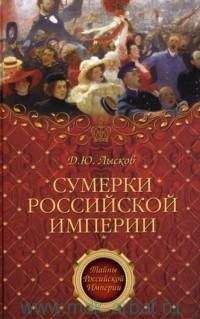крестьяне, видя наше бедственное положение, иной раз бросали нам куски хлеба, но конвойные прогоняли их и даже затаптывали хлеб сапогами.
Наконец мы добрались до Понт-а-Муссона. Через этот городок прошли все солдаты и офицеры разбитой французской армии. Отсюда военнопленных отправляли в Германию.
Нас привели на железнодорожный вокзал. Там как раз формировался офицерский эшелон. Те офицеры, которым удалось проделать весь путь верхом, теперь за бесценок продавали своих лошадей немецким евреям. За лошадь, стоившую от 1000 до 2000 франков, давали не более 200 франков. Я обратил внимание на одного офицера, который вместо того, чтобы направиться к покупателям, повел свою лошадь в дальний конец вокзала и там стал с ней разговаривать, гладить и даже целовать, как ребенка, в нос.
Лошадь была чистокровной арабской породы. В ответ на ласки хозяина она смотрела на него умными глазами и, без сомнения, тревожилась, предчувствуя скорое расставание. И вот этот момент настал. Офицера позвали в вагон. Услышав, что его зовут, офицер вынул из ножен саблю и мгновенно вогнал лезвие в сердце животного. Лошадь замертво свалилась на перрон, а офицер, не удосужившись забрать дорогую сбрую, поднялся в вагон.
Я в ожидании погрузки в вагоны сидел на груде камней и менял повязку на ноге. Пока я этим занимался, ко мне подошел немецкий военный врач и спросил, что у меня с ногой.
— Меня ударили прикладом.
— Вы не можете ехать в таком состоянии.
Нога действительно сильно распухла и посинела, к тому же кожа на ней стала облезать.
— Ждите меня здесь.
Вскоре он возвратился и приказал следовать за ним. Оказалось, что ему разрешили отправить меня в госпиталь.
XVI
На мой взгляд, если враг сильнее вас, то вы должны это признать, причем не только из чувства справедливости, но, главным образом, в интересах своей же собственной страны. Рассуждаю я в данном случае очень просто: чтобы исправить допущенные ошибки и со временем стать сильнее своего врага, первым делом надо попытаться понять, почему вы потерпели поражение. В Меце и Седане мы убедились в превосходстве немецкой стратегии, превосходство своей артиллерии они доказали на поле боя, а приверженность немцев жесткой дисциплине была доказана ими повсеместно. Ну а великолепную организацию их медицинской помощи я оценил лично, когда попал в немецкий госпиталь в Понт-а-Муссоне.
Меня привели в церковь при местной духовной семинарии, и там сменили повязку на ноге. В прежние времена эта церковь принадлежала аббатству, а на период военных действий в ней устроили госпиталь. Все полы в церкви были устланы толстым слоем соломы. На ней вперемешку лежали французские и баварские раненые, среди которых преобладали, увы, именно французы. Повсюду сновали сестры милосердия, монахи ордена Святого Иоанна [88], женщины, состоявшие в баварских и вюртембергских обществах милосердия, и множество разного рода добровольцев. Мне сразу вспомнилось, как у нас в начале войны военные власти чинили тысячи препон для частной инициативы, отговаривая одних, поднимая на смех других (в том числе мисс Клифтон), и уверяя всех и каждого, что они сами способны обеспечить уход за ранеными и не нуждаются ни в чьей помощи. Зато в Германии власти всячески поощряли создание частных госпиталей, которые следовали за воинскими частями и помогали военно-медицинской службе.
После окончания сражений при Форбахе и Фроэшвиллере эти великолепно организованные и прекрасно оснащенные госпитали благотворительных организаций немедленно выдвинулись в места боевых действий и обеспечили уход за всеми ранеными независимо от их национальности. Без их помощи тысячи наших солдат были бы брошены и умерли бы от ран, потому что французские военные хирурги не знали и знать не хотели, что действует международная Женевская конвенция. Они предпочитали сдаваться в плен, но категорически отказывались работать под эгидой Международного Красного Креста. Что же касается трех или четырех передвижных полевых госпиталей, организованных Французским обществом по оказанию помощи раненым, то они в принципе не могли обслужить огромное количество людей, раненых в сражениях под Гравелотом, Сен-Прива и Седаном.
Осматривавший меня врач решил, что я, как и большинство французов, не понимаю по-немецки, и поэтому не постеснялся во всеуслышание объявить свое мнение о ране на моей ноге.
— Если у этого бедняги завтра не начнется гангрена, — сказал он санитару, державшему на весу мою ногу, — то будем считать, что ему сильно повезло. Здесь он мне не нужен, отправьте его в палатку.
Я невольно вздрогнул, и это навело врача на мысль, что я понял его слова.
— Вы знаете немецкий язык? — участливо спросил он меня.
— Немного.
— Вы поняли, что я сказал?
— Прекрасно понял, не хуже, чем если бы вы говорили по-французски. Теперь, когда я предупрежден, вы можете не церемониться со мной.
То, что я сказал врачу, было, конечно, чистой воды бахвальством. В действительности, я сильно перепугался. Не хватало только подхватить гангрену в этом госпитале, где раненые лежали вповалку на пропитанной кровью соломе, а в воздухе стоял запах гниения, от которого к горлу подступала тошнота.
Меня на носилках отнесли в палатку. Теперь, узнав, что мне угрожает гангрена, даже в случае пожара я не согласился бы наступать на больную ногу. Поместили меня в французскую армейскую палатку офицерского образца. Несколько таких палаток установили в большом саду, обнесенном высокой оградой. Они были изготовлены из толстой ткани, и вентиляция в них была гораздо лучше, чем в госпитальных палатах. Я полагаю, что только благодаря хорошей вентиляции мне удалось спастись. В итоге гангрена у меня так и не началась, я хорошо отдохнул в спокойной обстановке, за мной прекрасно ухаживали, и вскоре мое состояние заметно улучшилось.
По ходу повествования я уже не раз нелицеприятно отзывался о пруссаках, и на то у меня было множество веских причин, но с моей стороны было бы нечестно не помянуть добрым словом тот уход, который мне обеспечили в Понт-а-Муссоне. В этом маленьком городке на тот момент скопилось семь или восемь тысяч раненых. Не знаю, за всеми ли ухаживали так же хорошо, как за мной, но относились ко мне и моим товарищам просто прекрасно, с сочувствием и даже с симпатией, причем самую трогательную заботу проявляли сестры милосердия и монахи ордена Святого Иоанна. Когда мы были в плену, нас почти не кормили, и мы буквально умирали с голоду, зато раненых не только отлично кормили, но и потчевали такими излишествами, как шоколад и сигары, и даже выдавали деньги.
Между тем, мой план побега не только оставался в силе, но даже превратился в своего рода навязчивую идею. Из-за этого я упорно не желал признать, что