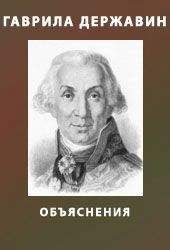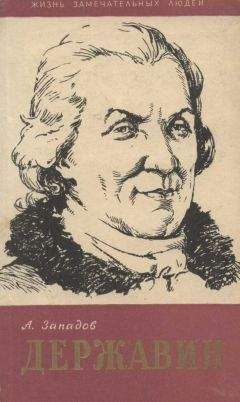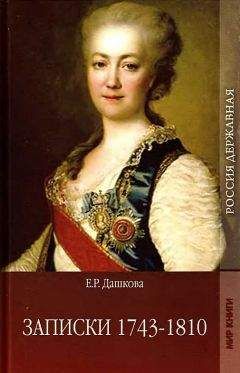Максимов наклонился к Блудову и перешёл на шёпот. До Державина доносилось только: «Без сообщников сильнейших нельзя…», «Высвободим через господ сенатских…», «Выпросим под своё поручительство…» Впрочем, он слушал Максимова вполуха и не потому, что тот не приглашал его никак участвовать в их умысле. Никогда в химерические сии прожекты обогащения Державин не верил.
Мало-помалу привлекли его препирания за бильярдом.
Оставив шепчущихся, Державин подошёл к игрокам и стал следить за партией. Появившийся здесь богатырской стати поручик вскорости начал браниться, а затем с досады чуть не переломил кий. Вся его игра попусту шла, тогда как у ловких партнёров каждый шар ложился точно в лузу. Приметя сие, Державин не мог удержаться и тихонько сказал поручику с улыбкой в голосе:
– Задача трудная, ваше благородие. Право, каким же мастером искусным надобно быть, чтобы на поддельные шары да и выиграть! – и пошёл назад.
– Спасибо, братец! – только пролепетал ему вслед офицер.
Видно, Блудов, у которого на сокровища запорожцев разгорелись зубы, изрядно успел налакаться. В ответ на все увещевания Максимова, он нёс одну околесицу.
– Что, договорились, сроднички? – садясь за стол, с насмешкою спросил Державин.
– Как же, чёрта лысого договоришься с ним! – мрачно ответил Максимов. – Его пьяного переговорить что свинью перепердеть!..
Брань и крики донеслись с другого конца залы. Игроки подступили к поручику, требуя закончить партию. Но офицер оказался не из робких.
– С мошенниками не играю! А ну подходи, смажу! – добродушным, не соответствующим моменту басом рокотал он.
Прибежал хозяин и развёл спорщиков.
Державин же с Максимовым подхватили Блудова под микитки, запихнули в карету и повезли на Поварскую.
Только подъезжая к знакомой церкви Бориса и Глеба, вспомнил сержант про Стешу: чем-то для бедняжки всё кончилось? Покосился на Максимова – тот оттопырил губы и сопел, видно всё обдумывая, как лучше завладеть кладом Черняя.
Карета уже повернула к дому Блудова, когда вдруг ударили в темноте трещотки и чьи-то сильные руки подхватили лошадей под уздцы.
– Дворянский сын Гаврило Державин! – просунулось в карету усатое рыло в треуголке.
– Что надобно? – встрепенулся сержант.
– Велено тебя взять под стражу и доставить немедля в полицейскую часть!
3
Седьмые сутки сидит лейб-гвардии сержант в карауле вместе с татями да беглыми людьми, никакой, однако, вины за собою не зная.
Как вошёл в камору – ошибло его смрадом. Лёг он в уголку, прикрылся мундиром и всё размышлял. Объедья да помои, что давали, не ел, брезговал.
Когда на другой день после ареста привели его в судейскую, Державин с обычной для него горячностью сам подступился с вопросами: «За что ж вы меня, безвинного человека, схватили? К чему прицепились?» Но видавшие виды судейские крючки ухом не повели – сидели как болваны деревянные. А потом зачали спрашивать и домогаться, чтобы он признался в зазорном обхождении с дьяконовой дочкою и во искупление греха на ней женился. «Да вы что? Никак решили вовсе оболтать меня?» – дивясь безумству и наглости альгвазилов, одно и мог молвить изумлённый Державин. «Никто на тя наговаривать не собирается, а отпирки твои не помогут. Звана ужо и твоя обличительница, – невозмутимо ответствовал председательствующий. – Обвопилась под плетьми, да потом и во всём и призналась». И верно, появилась вскорости Стеша, вся в пересадинах, и, не подымая отёклого от побоев и слёз лица, всё твердила, что сержант её очреватил. «Ах, Стеша, Стеша! Что же ты грех такой на себя берёшь! Где же правда на земле?» – сокрушённо сказал Державин и более ни на какие домогательства не поддавался.
А как свидетелей-очевидцев не оказалось, пришлось отправить его обратно в караул.
Знать, крючки судейские спокон веку жестокосерды были. Спомнилось ему, как, оставшись после смерти отца сиротою на двенадцатом году, терпел он с матерью и младшим братом всякие притеснения и лишения от соседей, отнявших у них лучшие земли, понастроивших там мельниц и потопивших их луга. А как входили они с ними в тяжбу, то в приказах сильная рука всегда перемогала. Да бедному везде бедно! Чтоб хоть какое-нибудь отыскать правосудие, должна была мать с малыми своими сыновьями по нескольку часов простаивать в передних у судей. Но те, выходя, не хотели её даже порядочно выслушать, а с холодной безжалостностию проходили мимо. Нет, никогда не изгладятся в его памяти слёзы и страдания матери от сего кривосудия!..
Так всё-таки где правда, где вышний суд и воздаяние? До какой подлости и худобы доведён самый род его! А ведь Державины не самые худые дворяне на Руси! Предок его – мурза Багрим выехал служить из Большой Орды при державе великого князя Василья Васильевича[13], который самолично и окрестил его в православную христианскую веру. Вотчин у него было не счесть – во Владимире, в Суздали, в Переяславле, в Юрьеве Польском, в Новгороде, в Нижнем… От Багрима, окрещённого Ильёй, пошли дети – Дмитрий Нарбек, Акинф, Юрья, Тегль, а от Дмитрия Ильина сына Нарбекова – Назарий, Алексей, Держава. Этот последний и был родоначальником их фамилии.
Что ж с того богатства осталось?
Дед Державина, Девята Иванов, пока силы были, служил верой и правдой России и Петру Великому, ходил в Крымские походы[14]: в первом с боярином Долгоруковым, во втором – с Шереметьевым, был и против башкирцев, и против донских казаков, нёс исправно службу в Казани, о чём «безо всякого закрытия и фальши» сообщал императору Петру Алексеевичу в 722-м году. Четверо его сыновей, а среди них и отец Гаврилы, состояли в российской армии: Иван в Преображенском полку в солдатах с 713-го году, да Иван меньшой в морском флоте с 715-го году мичманом, да Роман, коей определён в полк в солдаты с 722-го году, а потом пришёл черёд и четвёртого – Василия.
Но жаловался государю Девята Державин: «А когда я стал стар и дряхл и глазами худо вижу и скорбен главною и внутреннею болезнью, то впал в бедность. Оклада на мне денежного не положено. Сын Потап 8 лет в доме увечен, глух и дряхл. Жительство имею в Казанском уезде в деревне Кармачах».
Истинно, молвить стыдно – имел в ней Девята Иванович только свой двор, да крестьян три двора, а людей семь душ: в том числе два недоросля, да бобыльский один двор, и у помещика жили за скудостию сын крестьянский да два недоросля… Нет, до бога высоко, до царя далеко!..
Сбродный люд в каморе меж тем болтал разное: беглые всё больше сетовали на тяжкие подати, на лютующих помещиков и старост, на нестерпимую голодуху.
– С весны починаем в мучицу пелы да солому подмешивать, а иные едят лист липовый и кору берёзовую толчёную, отчего происходят многие болезни, даже до умертвия, – обыденно рассказывал мужичонка с всклокоченной бородой.
В другом углу гнусаво гудел густобородый верзила в донельзя драном чекмене:
– …Потому как покушался довесть до сведения нашей матушки царицы о беззакониях, творимых у нас на Яике… Жалованье повсеместно удерживают и всяко самовольничают: старые права и обычаи рыбной ловли уничтожают. В багренье, да в севрюжье рыболовство, да в осеннюю плавню половину улова забирают себе. Нам то не любо…
– Так тебе, ослопина, и надо! – насмешливо отозвался кто-то из темноты. – Глядишь, скоро всё отымут: ни севрюжки, ни жёнки собственной не попробуешь – будешь холоп холопом!
– …Генерал Черепов с командою многих побил, а иных повесил, прочих же сёк нещадным или простым кнутом, – продолжал уныло гудеть казак. – Им веселие, а нам отягощение и разорение…
– Эх вы, а ещё вольными казаками прозываетесь, – снова послышался насмешливый голос. – Что же тогда нам, подъяремным, делать прикажешь?
Ах, когда бы нам, братцы, учинилась воля,
Мы б себе не взяли ни земли, ни поля,
Пошли б, братцы, в солдатскую службу.
И сделали б между собою дружбу.
Всякую неправду стали бы выводить
И злых господ корень переводить…
– В Шацком уезде, – бормотал мужичонка, – холопы ночью, в самое первосоние усадьбу да и запалили с четырёх концов. Так боярин, сказывают, со страху постель свою опрудил. А от усадьбы богатой да ото всех служб остался один прах…
Державин в сии подлые разговоры не вступал, лежал себе да помалкивал. Только подумал: «Нет, эта болезнь нам ещё отрыгнётся…»
– Ах! Безвинно меня оболтали!.. – с воплем вверзился в камору щёголь в новёхоньком шёлковом камзоле, отороченном кружевными пелепелами.
«Ишь, шаркун паркетный, чать, много полов перешаркал, попробуй и энтого!» – с неприязнью подумалось Державину, но тут же сержант поспешил подняться. Щёголь пал оземь в омрак с дерготою, корчами и кривлянием.
Державин подошёл, опрыскал его водою, и щёголь очнулся. Назвался дворянским сыном Бурсовым Борисом. Поведал, что обвиняют его в подделывании векселей на крупную сумму денег, тогда как он ни сном ни духом неповинен. Показалось Державину, что видел он сего щёголя в нечистых компаниях за зернью да картами, но по свойственному ему простодушию сержант тут же отогнал от себя подозрения.