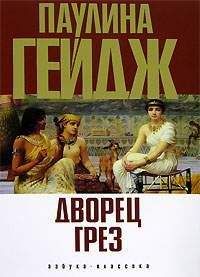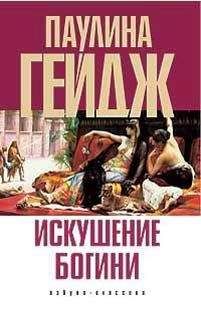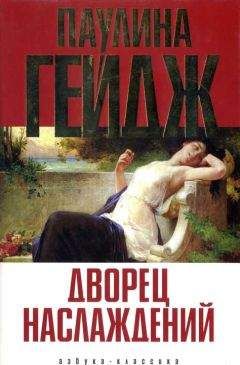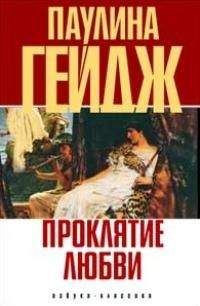Мать не умела ни читать, ни писать. В работе она полагалась только на опыт и чутье: щепотку того, ложку этого, — все премудрости она узнала от своей матери. Я сидела на скамеечке, смотрела, и слушала, и все запоминала. Я продолжала ходить с ней по селению на роды, носила ее мешок и вскоре стала подавать ей нужные снадобья даже раньше, чем она успевала попросить о них, но отвращение к самому действу родов никогда не покидаю меня, и в отличие от нее я оставалась равнодушной к первому детскому крику. Я часто задумывалась, нет ли в моей природе какого-нибудь серьезного изъяна, — может быть, какой-то слабый росток материнства не прижился во мне, пока я сама была еще в утробе матери. Я тяготилась своей виной и поэтому очень старалась, чтобы мать была мною довольна.
Скоро я стала осознавать, что работа моей матери — это нечто большее, чем просто работа повитухи. Женщины часто приходили к нам в дом по другим поводам, и некоторые о чем-то шептались с матерью. Она не обсуждала со мной их личных секретов, но объясняла общие случаи.
— Для прерывания беременности может служить перетертая смесь фиников, лука и медвежьих ушек, настоянная на меду, которую прикладывают к вульве, — говорила она мне, — но я думаю, что средство подействует лучше, если после нанесения мази выпить смесь крепкого пива с солью и касторовым маслом. Будь очень осторожна, если тебя попросят прописать это, Ту. Многие жены приходят ко мне за этим тайно, без согласия своих мужей. Поскольку моя первая обязанность — помогать женщинам, я не отказываю в помощи, но ты должна научиться делать так, чтобы к тебе не обращались с подобными просьбами. Лучше предотвратить зачатие, чем потом лечить последствия неудачного аборта.
При этих словах я навострила уши.
— Как же это можно предотвратить? — спросила я, стараясь не выдать своей заинтересованности.
— Это нелегко, — резко ответила она, не подозревая, насколько важен для меня этот вопрос. — Я обычно рекомендую густой сироп из меда и смолы аюта, в котором замачивались верхушки акации. Сначала натри туда акацию, а через три дня удали ее, затем можно вводить сироп во влагалище, — Она искоса взглянула на меня. — Но это не к спеху. — Она резко сменила тему: — Ты должна научиться помогать началу жизни, прежде чем научишься предотвращать ее зарождение. Дай мне пестик, там, в миске, а потом иди и посмотри, не вернулся ли отец с поля и не хочет ли он помыться.
Я думаю, что отец, должно быть, заставил ее воспользоваться ее же собственным средством. Однажды, в сезон шему,[14] мне не спалось из-за жары, и я слышала, как они с отцом спорили ночью. Сначала они говорили шепотом, а потом перешли на крик, и я все слышала, пока Паари храпел.
— У нас есть и сын, и дочь! — сказал отец резко. — И хватит.
— Но Паари хочет быть писцом, а не пахарем. Кто потом будет возделывать землю, когда ты станешь старым и немощным? А Ту, она выйдет замуж и заберет с собой все, чему я ее учу, в семью своего мужа. — (Я чувствовала, что в ней растет страх; вызванное им раздражение прорвалось наружу, в голосе появились визгливые нотки.) — Не останется никого, кто будет заботиться о нас в старости. Я постыдилась бы полагаться на доброту наших друзей! Я подчиняюсь тебе, муж мой. Я не буду беременеть. И все же я горюю о пустоте моей утробы!
— Тише, женщина! — приказал отец тоном, который обычно заставлял всех нас немедленно ему подчиниться. — Мне не вырастить столько зерна на своих трех ароурах, чтобы прокормить больше ртов, чем у нас уже есть. Мы живем бедно, но достойно. Заполонив наш дом детьми, мы обеднеем еще больше, принеся в жертву даже эту относительную независимость. Кроме того… — Он понизил голос, и мне приходилось напрягаться, чтобы расслышать слова. — Что заставляет тебя думать, будто Асват — такое уж мирное и безопасное место, каким кажется? Ты, как и все женщины, видишь не дальше той тропы, по которой ходишь стирать белье к реке, и слышишь только сплетни, которыми потчуют тебя другие женщины. Мужчины здесь не намного умнее. Они отправляют к женщинам разносчиков и странствующих работников и не слушают их рассказы, потому что они ограниченные, они с подозрением относятся ко всем, кто родился не здесь. Я повидал Египет. И я не питаю презрения к чужеземцам, что приходят и уходят. Я знаю, что племена с востока просачиваются в Дельту в поисках пастбищ для своего скота. И в Дельте неспокойно. Это может закончиться ничем, а может означать и то, что благой бог призовет всех своих солдат покинуть поля и встать на защиту своей страны. Как ты будешь жить тогда, если тебе придется кормить младенцев и работать повитухой? Если меня убьют, земля отойдет обратно фараону, потому что, как ты говоришь, Паари не имеет желания идти по моим стопам. Поразмысли над тем, что я тебе сказал, с закрытым ртом, потому что я устали мне надо поспать.
Я слышала, как мать пробормотала что-то еще и покорно вздохнула, и потом все стихло.
Когда голос отца умолк, я долго лежала на спине, глядя в гнетущую жаркую темноту маленькой комнаты, и представляла иноземцев, о которых он говорил; они медленно сыпались на плодородную почву Дельты — место, которого я никогда не видела и редко слышала о нем, — расползаясь, медленно просачиваясь на юг вдоль Нила к моему селению, подобно черному илу половодья. Живая картинка впечатлила меня. Внезапно Асват перестал быть для меня центром мироздания, он сжался в моем сознании, превратившись в крохотное болотце посреди угрожающей пустоты, и все же я не ощущала потерянности или опасности. Мне стало интересно, как выглядят эти зловещие люди, и как выглядит Дельта, и как священные Фивы, дом Амона, царя богов, и, когда я наконец заснула, мне чудилось, что я нахожусь в лодке, плывущей вниз по течению Нила, к столице легендарного благого бога.
Как я уже говорила, мне было восемь лет, когда я придумала, как школа может сама приходить ко мне, если уж мне туда нельзя. Это произошло в ту пору, когда я уже могла справляться с любой работой в доме и во всем помогала матери, поэтому дни мои были целиком заполнены домашними обязанностями; по потребность учиться отдавалась во мне постоянной ноющей болью, тихим отчаянием, приступы которого мучили меня в редкие моменты праздности. Мой план был прост. Меня мог бы учить Паари. К этому времени он, должно быть, узнал уже почти все, что можно было узнать, не зря же он пять лет ходил в храмовую школу. Однажды после полудня, когда наш дом и наверняка все селение погрузились в дремоту, изнывая от палящего летнего солнца Ра, и предполагалось, что мы с Паари тоже должны отдыхать, я подтащила свой тюфяк поближе к нему и пристально посмотрела ему в лицо. Он не спал. Он лежал на спине, положив обе руки под голову, и в полумраке следил за моими движениями. Когда я склонилась над ним, он улыбнулся.
— Нет, я не буду рассказывать тебе историю, — громко сказал он. — Слишком жарко. Почему бы тебе не поспать. Ту?
— Говори тише, — сказала я, устраиваясь поудобнее. — Сегодня мне не нужно историй. Сделай мне большое-большое одолжение, мой милый Паари.
— О боги, — застонал он, перекатываясь на бок и приподнимаясь на локте. — Когда ты начинаешь говорить таким вкрадчивым голосом, я понимаю, что влип. Чего ты хочешь?
Я рассматривала его, а он снисходительно улыбался мне, этот брат, которого я обожала, этот великодушный юный муж-чина, который уже научился разговаривать повелительным отцовским тоном, не допускающим возражений. У меня не было от него секретов. Он знал, как сильно я не любила помогать матери во всем, что связано с родами, и в какой восторг меня приводили все ее снадобья, как одиноко я себя чувствовала, когда другие деревенские девчонки отворачивались от меня с ухмылками и хихиканьем, когда я несколько раз делала попытку подружиться с ними. Он также знал, что из-за этого самого одиночества я мечтала оказаться дочерью потерянного царевича либу. С ним я никогда не задирала нос, и он в свою очередь относился ко мне с нежностью, странной в отношениях между братом и сестрой. Я дотронулась до его оголенного плеча.
— Я хочу научиться читать и писать, — выпалила я на одном дыхании, в страстном порыве смущения и тревоги. — Покажи мне как, Паари. Это не займет у тебя много времени, обещаю!
Сначала он уставился на меня, пораженный, потом расплылся в улыбке.
— Не глупи, — проворчал он. — Это уж слишком. Такое учение не для девчонок. Мой учитель говорит, что слова священны, что весь мир, и все законы, и вся история творятся оттого, что боги произносят священные слова и часть силы этих слов остается заключенной в иероглифы. Что за польза от этой силы ученице повитухи?
Я почти проникла в смысл того, о чем он говорил, могущество слова взволновало меня.
— Но что, если я не стану повитухой? — настаивала я. — Что, если однажды мимо будет проплывать богатый торговец в своей золоченой ладье, его слуги потеряют весло, и им придется остановиться на ночлег прямо здесь, в Асвате, а я в это время как раз буду на реке — стирать или лаже плавать, — и он увидит меня, и влюбится, и возьмет меня в жены, а потом, позже, его писец заболеет, и некому будет писать его письма? «Дражайшая Ту, — должно быть, скажет он, — возьми писчую дощечку!» И тогда я провалюсь на месте от стыда, потому что я всего лишь жалкая безграмотная деревенская девчонка, и я увижу на его лице презрение!