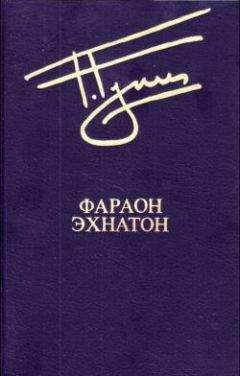Я надеялся рассмешить Ксенофонта; он любил шутки, но на этот раз не увидел в моем рассказе ничего смешного.
Тут за нами вышел главный учитель, Миккос, и сердито заорал, чтобы мы шли на урок Гомера. Какие бы там волнения и беспорядки ни творилось в городе и среди нас, у него настроение было отличное и вскорости он уже вытащил свою плетку.
Следующим был урок музыки, мы едва дождались его конца, повесили наши лиры и помчались в гимнасий. Раздеваясь, мы увидели, что в колоннаде полно людей; теперь мы сможем узнать последние новости. Наш наставник командовал сотней при Делии [24], но сегодня он был не в силах перекричать шум, и даже звуки флейт, под которые мы делали упражнения, тонули в гуле толпы. Потому, выбрав для работы несколько лучших борцов, он велел всем остальным упражняться самостоятельно. Наши пестуны засуетились, видя, что мы слушаем разговоры мужей в колоннаде, но там толковали исключительно о политике. Об этом всегда можно догадаться даже издали: когда они спорили из-за какого-нибудь мальчика, то понижали голос.
Казалось, все точно знают, кто виноват, но в толпе не нашлось бы и двоих, согласных на этот счет между собой. Один говорил, что это коринфяне хотели оттянуть войну.
– Глупости, - отвечал второй, - это сделали люди, которые знают Город, как собственный двор.
– Как это глупости? Среди наших иноземцев-метеков есть такие, что отца родного продадут за пять оболов!
– Метеки прилежно трудятся и зарабатывают деньги. Вполне достаточное преступление с точки зрения несправедливых!
А люди, которые соперничали в любви или политике, но старались это скрыть, здесь сразу начали оскорблять друг друга. Никогда прежде мне не приходилось оказаться среди напуганных людей, и я по молодости не мог воспринимать их страх спокойно. До сих пор мне не приходило в голову, что столь великое неблагочестие, если его совершил кто-то из жителей, может навлечь проклятие на весь город.
Рядом со мной какие-то молодые люди обвиняли олигархов.
– Вот увидишь, они попытаются свалить вину на демократов, а потом потребуют разрешения ходить с вооруженной охраной. Старая уловка тирана Писистрата. Но он хотя бы ранил в голову себя, а не бога [25].
Естественно, олигархи тут же принялись кричать, что это грязная демагогия, разговор пошел на повышенных тонах, пока не прозвучало новое мнение:
– Не обвиняйте ни олигархов, ни демократов, во всем виноват только один человек. Я знаю свидетеля, который укрылся в святилище, опасаясь за свою жизнь. Он клянется, что Алкивиад…
При звуке этого имени гомон поднялся громче прежнего. Люди стали рассказывать басни о его эротических пирах, не слишком стесняя себя в выражениях, хоть мы, мальчики, стояли тут же и не пропускали ни слова; другие говорили о его сумасбродствах, о выставленных им семи колесницах на гонках в Олимпии, о его скаковых лошадях, флейтистках и гетерах; о том, что если он тратит деньги на какую-то пьесу или хор, то старается превзойти любого другого изяществом и роскошью раза в три.
– Только ради золота и добычи он затеял Сицилийскую войну!
– Так зачем ему устраивать святотатство и тем мешать войне?
– На тирании он поживится еще больше.
Город не уставал сплетничать об Алкивиаде. На свет вытаскивались истории двадцатилетней давности о том, как высокомерно обходился он с поклонниками, будучи еще мальчишкой.
– Он поддерживает продолжение войны ради собственной славы, - говорил кто-то. - Если бы он не выставил дураками спартанских послов, когда те приехали договариваться о мире, нам бы сейчас не приходилось воевать.
Но тут сердитый голос, который давно уже пытался вклиниться в разговор, закричал:
– Назвать вам главный грех Алкивиада? Он родился слишком поздно, в городе мелких людишек. Почему толпа изгнала Аристида Справедливого [26]? Потому что народу надоело выслушивать восхваление его доблестей. Люди признавали их - и им становилось стыдно за себя. А теперь им ненавистно видеть красоту, ум и доблесть, высокое рождение и богатство, объединившиеся в одном человеке. Что вообще, кроме ненависти к превосходству, кроме желания низов видеть, что ни одна голова не торчит выше их собственных, поддерживает жизнь в демократии?
– Ну уж нет, клянусь богами! Только справедливость, дар Зевса людям!
– Справедливость?! Так что, по-твоему, если боги дали человеку разум, или предвидение, или искусность, нужно принижать его, словно он добыл свои достоинства воровством? Этак мы скоро начнем ломать ноги нашим лучшим атлетам - по требованию худших, во имя справедливости! Или какой-нибудь гражданин, рябой и косоглазый, подаст жалобу на вот такого паренька, как этот, - тут он вдруг почему-то ткнул пальцем в мою сторону, - и, полагаю, ему сломают нос во имя справедливости.
Смех на мгновение прервал все споры. Самые воспитанные из них, видя мое смущение, отвели глаза, но один-другой продолжали пялиться. Я заметил, как Мидас поджал губы, и отошел от них подальше.
Среди немногих ребят, которые пытались заниматься упражнениями, был и Ксенофонт. Он закончил свою схватку и подошел ко мне. Я думал, он опять заведет, что в Спарте, дескать, было бы меньше шума. Но он сказал совсем другое:
– Ты внимательно слушал? Странную вещь я тебе скажу. Те, кто винят коринфян или олигархов, ссылаются на логику или говорят, что все на это указывает. А вот те, кто винят Алкивиада, твердят в один голос, что им сказал кто-то на улице.
– Согласен. Так, может, какая-то правда в этом есть?
– Может - если только кто-нибудь не распускает такие слухи умышленно.
У Ксенофонта было простое открытое лицо и скромные манеры; лишь те, кто успел хорошо его изучить, знали, что у него есть голова на плечах. Он постоял, оглядывая колоннаду, потом засмеялся про себя.
– Кстати, если после школы хочешь учиться у софиста, то сейчас подходящий момент выбрать себе учителя.
Не приходится упрекать его за этот смех. Пока он не напомнил, я совсем забыл, что здесь находятся и софисты. В любой другой день каждый из них стоял бы среди своих учеников, словно цветок, окруженный пчелами; но теперь, когда они сидели на скамьях или расхаживали по колоннаде, к ним обращались с вопросами, как к любому человеку, который утверждал, будто что-то знает; некоторые держались более благопристойно, чем окружающие, другие - отнюдь. Зенон яростно высказывал свои демократические воззрения; Гиппий, привыкший обращаться со своими молодыми людьми так, словно они все еще школьники, позволил им затеять ссору между собой, а теперь, раскрасневшись от крика, пытался их успокоить; Дионисодор и его брат, софисты низкого пошиба, которые за малую плату готовы были учить всему, от нравственной доблести до танцев на канате, вопили как базарные бабы, поносили Алкивиада и подскакивали от ярости, когда люди вокруг смеялись, ибо было широко известно, как он вызвал их на диспут обоих сразу и положил на обе лопатки полудюжиной ответов. Только Горгий, со своей белой бородой и золотым голосом оставался спокоен как Кронос, хоть и был сицилийцем; он сидел, сложив руки на коленях, окруженный серьезными молодыми людьми, чья изящная осанка говорила об их хорошем происхождении и воспитании; когда с той стороны доносилось слово-другое, становилось ясно, что они заняты только философией.
– Отец говорил мне, - заметил Ксенофонт, - что я могу выбирать между Гиппием и Горгием. Думаю, Горгий лучше.
Я огляделся вокруг и сказал:
– Они еще не все здесь.
Я не стал поверять ему свои собственные устремления. Он, как и мой отец, придерживался мнения, что философы должны одеваться и вести себя вызывающим уважение образом, соответственно своей профессии.
Но тут меня отыскал Мидас. Он относился к своей работе серьезно, а мой отец наказывал ему не только отгонять поклонников, но и держать меня подальше от всех софистов и риторов. По мнению отца, я был еще слишком молод, чтобы извлечь что-либо основательное из философии, она меня научит только пререкаться со старшими и более хитро врать.
Тем временем наш наставник заорал, что мы пришли сюда бороться, а не кудахтать, как девчонки на свадьбе, и что мы пожалеем, если ему придется повторять дважды. Пока все толкались, подыскивая себе подходящего партнера, в конце колоннады поднялся громкий скандал. Среди общего шума выделялся знакомый мне голос. Сам не знаю, почему я не остался там, где был. Мальчик, подобно собаке, чувствует себя лучше, ощущая за спиной стаю. А когда над его богами смеются, у него опускаются уши и хвост. Но я побежал в самый конец палестры, делая вид, что ищу партнера, хотя на самом деле избегал всех свободных.
Сократ во всю глотку спорил с крупным мужем, который пытался перекричать его. Когда я туда добрался, Сократ говорил:
– Очень хорошо, итак, ты чтишь богов Города. А законы тоже?
– А как же! - воскликнул тот муж. - Задай этот вопрос своему дружку Алкивиаду, а не мне!