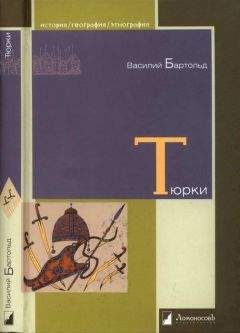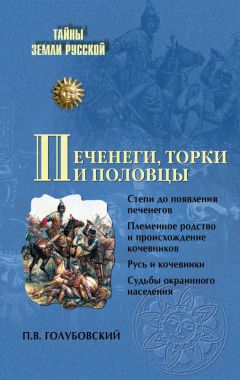Дружеский ковш часто доходил до Ополоницы. Он осушал его с каждым новым ковшом все выше вскидывал голову. Над ним плыли опаленные низким солнцем теплые облака. Ласковая волна плескалась о высокий борт струга, и серая птица рыболов часто мелькала над стругом, крича отчаянно.
Ополоница пел неведомую в этих краях песню. От песни у Федора блаженно вздрагивало сердце. Она будила отвагу, звала на бой, суля немеркнущую славу победителю…
Княжич с улыбкой смотрел на своего пестуна. Тот сидел с обнаженный головой — широкоплечий, сильный, — и ветер раскладывал на его груди длинные косицы посеревшей бороды.
…Федор оправился от ран и с той весны каждый год уходил в ратные походы. Под начало княжичу дал князь Юрий сотню всадников.
После того как подновлен был городок Красный на Осетре, Ополоница обратился однажды к Юрию:
— Удели, княже, Красный городец сыну своему — пусти Федора в отдел.
Юрий недовольно поморщился: не терпел, когда другие предупреждали его намерения.
— Рано Федору уделом править.
Ополоница выждал, пока легкая краска гнева не сошла с лица князя. Потом сказал еще:
— Придется сидеть Федору в Рязани на отчем столе. Откуда же ему набраться для этого разума?
Юрий встал со скамьи и, заложив руки за спину, прошелся по горнице. Ему все помнились речи княгини и ее жалобы на то, что занял в сердце Федора пестун место отца, что пора бы разлучить их и отослать Ополоницу в какой либо понизовый город…
В нетерпении князь кусал светлый ус. Он понимал правоту мысли Ополоницы, но строптивость мешала ему согласиться с ним.
— Думал я, — начал он, обрывая концы слов, — думал дать удел тот Роману, племяннику…
— И тому город найдется. Федору же Красный нужнее. От тебя будет подальше, стало и навыкнет он без твоей узды творить суд и расправу. Готовь себе княже переемыша крепкого да надежного…
— Тогда ведь оженить надо Федора!
Ополоница поднял на князя тихие глаза, и легкая усмешка пробежала по его усам:
— Есть у князя Михаила в Чернигове…
Юрий заинтересованно взглянул в глаза воину и осторожно присел на стол:
— Ну, сказывай!
Беседовали они долго.
А наутро стало известно, что снаряжается на Чернигов посольство сватать за княжича Федора дочь князя Черниговского Михаила Всеволодовича. Во главе посольства пойдет княжий пестун Ополоница.
В то предзимье занедужил княжич Федор. Переправляясь на коне через Проню, он провалился в воду, продрог и на другой день слег в жестокой лихорадке.
Ополоница вызвал к недужному ведуна Ортемища, потом пришел для совершения оздоровительной молитвы поп Бессон, что учил княжича письменному навыку. Следом за поп прислал старый Коловрат своего конюшего Нечая.
Недуг был сломлен в самом начале, но Федор сильно ослабел. И когда князь Юрий сказал ему о выезде посольства в Чернигов, Федор только вскинул на отца огромные синие глаза и опять смежил густые ресницы.
Хворал княжич почти всю зиму, до масленицы.
В долгие вечера, когда в верхнем тереме, у матушки сенные девушки пели протяжные песни и сверчки за печкой циркали без умолку, припоминалась Федору вся его жизнь. Начиналась она с праздника Ярилы на Княжом, за Проней, Лугу, куда его впервые привел Ополоница.
До того видел он шумное празднество только из высокого окна терема.
За княжим Лугом, который обнимали светлые ленты Оки и Прони, сливавшиеся под рязанскими высотами, синели темные мещерские леса. За теми лесами каждый вечер ложилось спать солнце, оттуда же приходили ночные страхи, там жил сон-пересон, который с вечера накликала мамка, там стояли избушки на курьих ножках, и к тем избушкам клыкастых ведуний подходили богатырские перепутья…
Каждую весну на Княжий Луг пригоняли со степей конские табуны. Здесь конюшие князья и прочих именитых рязанцев отбирали лучших скакунов для заповедных конюшен, здесь же удалые наездники впервые зауздывали диких коней и скакали на них, скрываясь надолго с глаз многих зрителей. Назад кони приходили темные от пота и навсегда послушные руке всадника.
Объездка коней совпадала с игрищами, когда на горах все вечера жгли костры и девушки пели звонкие веснянки.
В эти дни маленький Федор не отходил от косящатого окна. Из-за реки к нему доносилось ржанье коней, гул множества голосов, пение старцев и выкрики скоморохов. Голубую ленту Прони беспрестанно пересекали узкогрудые ладьи. В ладьях, на цветных полостях, сидели хмельные воины, гости, посадские молодцы — все в пестрых кафтанах и в праздничных шапках с жемчужными околышами и с дорогой выпушкой. У самой воды на том берегу торговали речистые квасники и сбитенщики, а чуть дальше, около круглых, как блюдо, озерка, в котором то и дело отражались летучие облака, молодые ковали, кожемяки и рыбные ловцы затевали, похваляясь, полюбовный кулачный бой.
От восторга у Федора замирало сердце. В эти дни он забывал обо всем. Даже ночью он не раз вскакивал с постели, поднимал оконную раму и, дрожа от холода, заглядывал вниз. Там, на маслянистой речной зыби, колыхались звездные огоньки; слева, со стороны гор, на луга падали рыжие вскрылья отсветов; в неверном свете далеких костров проступали на темном лугу то темное полотнище шатра, то кучка людей у самой воды… Иногда распахивался какой-либо шатер; оттуда выметывался красный язык пламени, освещавший фигуру хмельного воина. Ржали кони…
…Утомленный видениями, Федор звал старого ведуна, что безотходно служил ему. Кряхтя и охая, Ортемище садился у изголовья княжича и заводил свою бесконечную сказку…
На второй неделе великого поста прибежал в Рязань гонец с вестью о том, что поезд черниговской княжны остановился во Мченске и скоро будет на Москве.
Через Перевитск и Коломну к Москве погнали конские подставы и выслали на недобрые перепутья воинскую стражу.
А через неделю скороход из Переяславля-Рязанского сказал, что в субботу утром княжна будет на переправе у Прони.
Федор выехал к Доброму Соту, что стоял у переправы, с зарей.
Был еще княжич бледен от хвори и худ. Светлые длинные волосы спадали ему на воротник прямыми прядями; на щеках и на подбородке у Федора отрастала негустая борода. Бледность лица усиливала голубизну глаз княжича. Улыбка же придавала его лицу выражение неприходящей доброты.
На виду приближающегося поезда Федор остановил своего коня на целине, у дороги.
Снег на полях сильно осел, и дорога была избита глубокими ухабами. Возок княжны тащили четыре спаренных коня. Возок шел неровно, будто плыл по гребням волн.
Федор не спускал глаз с малинового верха возка. От него не укрылось, как раза два приподнялся боковой полог и сквозь узкую щель на одно мгновенье вспыхивали чьи-то глаза…
Когда возок поравнялся с ним, Федор ударил коня плеткой. Конь шарахнулся в сторону, но, сдержанный сильной рукой, вздыбился и сразу перешел на крупную рысь.
Федор скакал рядом с возком, касаясь стременем малинового верха. Опять колыхнулся полог. Федор на всем скаку наклонился и заглянул в косое отверстие. Из тьмы проступило закутанное в меха лицо, сверкнули глаза, и сдержанной улыбкой дрогнули яркие губы…
Федор улыбнулся и выпрямился в седле.
Он скакал рядом с возком до самой Рязани. И только на подъеме к городским воротам его отозвал в сторону Ополоница и строго наказ ехать за возком княжны «в отдалении, вослед, по чину».
С горы, навстречу поезду, спускалось множество народа, а в самых воротах стоял под золочеными хоругвями, окруженный священством и черноризцами, сам владыка муромский и рязанский Арсений.
Княжну-невесту поместили в новом тереме. Смотрины состоялись после того, как гостья отдохнула с дороги, помылась в жаркой бане.
На смотрины приехали ближние князья — из Ожеска, Ольгова и Белгорода — с женами и дружиной. Владыка благословил жениха и невесту. Венчанье было назначено на Красную Горку.
Недаром шла по всей Русской земле — от Днепра до Волги, от Киева до Новгорода — слава о красоте княжны Евпраксии Черниговской.
Рязанские княгини и родовитые боярыни, сами славившиеся добротной северной красотой и осанкой, увидев Евпраксию, потеряли покой. Было в прекрасной княжне что-то от быстролетной птицы. Высокая и белолицая, она гордо несла свою маленькую головку, отяжеленную русой до пят косою, и когда шла, казалось, вот-вот вскинет она легкими руками-крыльями и улетит вслед за ходячим облаком. Синие блестящие глаза Евпраксии смотрели вокруг ласково, лучились такой светлой радостью, что при взгляде на княжну улыбался всякий человек и забывал при этом про все свои горести-печали.
За весь обряд обручения Федор только один раз поднял глаза на свою невесту. Красота Евпраксии ошеломила его потрясла. Он вдруг почувствовал, что не стоит своей невесты и что, обручаясь с ним, Евпраксия губит свой девичий век…
За столом он все время сидел, опустив очи, и видел только тонкие, с перламутровыми ноготками пальцы Евпраксии, смущенно перебиравшие край шитого рушника, положенного на колени нареченным жениху и невесте.