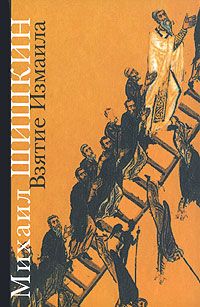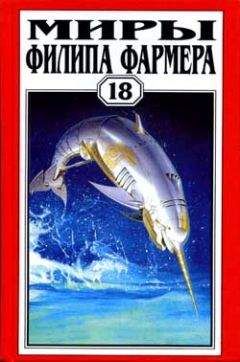Все смотрят на мою девочку. Иду гордо, веду ее за ручку.
— Идем Анечка, сейчас начнется.
Тут К. К.
— А вот и Александр Васильевич собственной персоной! А крошка ваша как вымахала! Ангелочек наш! Кавалерист-девица!
Лопочет что-то с восклицательными знаками. В бороде крошка, на галстуке пятна щей. Покойница, небось, переживает, смотрит сейчас откуда-нибудь из зеркала на своего вдовца и сокрушается — без нее ничего не может, совсем опустился.
— Вот моя-то на вас бы, Александр Васильевич, порадовалась! Уж она в вас души не чаяла! А народа-то смотрите сколько пришло! Говорят, начинал при пустом зале, а теперь — битком. Публика-то у нас сами знаете какая. Им бы все на злодея поглазеть. А порядочный человек — зачем ей нужен? Вы уж на сороковины загляните. Ей будет приятно.
Обещал. Куда денешься.
Уже простились, пошли в зал, старик все махал Анечке, та пускала от удовольствия пузыри, вдруг он опять как стиснет мне руку и шепотом в ухо:
— Вы святой человек! Я благодарю вас!
Милый, глупый К. К. Почему-то они все думают, что это должно приносить страдание — вот так за ручку гулять с моим чудом в каком-нибудь людном месте. И ничего не объяснишь, а начнешь объяснять, будут кивать головой и жалеть еще больше. Бог с ними.
Душный знаменский зальчик действительно был полон. Посадил Анечку на колени.
— Смотри, сейчас дядя волшебник будет показывать всякие фокусы!
Публика нетерпеливо аплодировала, мое чудо тоже захлопало в растопыренные ладошки.
Занавес чуть колыхался на закулисном сквозняке. Я все вытирал красавице моей слюнки. Наконец сцена открылась и к рампе вышел не индус в чалме, и не Мефистофель в огненном плаще — этим персонажам я бы не так удивился — на сцену вышел мой учитель чистописания Громов, вальяжный, большеголовый, подслеповатый. Все та же холеная бородка, та же снисходительная полуусмешка, те же длинные розовые ногти. Сказать, что я испытал трепет — ничего не сказать. Вдруг сразу вспомнил себя растоптанным школяром, которому этот ушедший после какой-то истории из университета профессор презрительно бросил на парту тетрадку со словами:
— Это, любезный, не из русской чернильницы.
Как тут не поверить если не в переселение душ, то хотя бы тел. Даже голос переселился. Даже манера повторять по нескольку раз сказанное, чтобы дошло до тупиц за последними партами. Даже школьную доску захватил с собой мой неудачливый профессор.
Начал Лунин с математических экзерсисов. Ему ассистировала переселившаяся Шахерезада — в зеленых шароварах, с голым животом, в полупрозрачной чадре. В прелестнице, семенившей по сцене под перезвон колокольчиков на поясе, сложно было узнать мою заплаканную доверительницу.
На черной доске она писала мелом заказанные охотниками из публики пятизначные числа, которые Лунин с легкостью умножал, делил или возводил в квадрат.
— Поверьте, — усмехался он в ответ на аплодисменты, — в этом нет ничего особенного, ничего особенного. Просто каждый из нас использует данное ему кое-как, с ленцой. Чтобы стать силачом, нужно просто почаще напрягать мышцы, напрягать мышцы.
Перешли к шестизначным. Лунин подносил ладони к вискам, напрягался на какое-то мгновение, затем небрежно бросал ответ. Один раз ошибся, но тут же сам себя поправил.
Неверующий Фома, переселившийся в моего пузатого, тяжело дышавшего соседа сзади, сам полез на сцену с заготовленной бумажкой. Придирчиво осмотрел мел — вдруг с подвохом, повернул доску так, чтобы было видно только зрителям и, сверяясь со своим листком, вывел два ряда цифр, которые нужно было перемножить. Лунин сказал:
— Можете не показывать мне, просто назовите.
Выслушал, глядя куда-то в потолок, только кулаки его терлись друг о друга, и неспешно произнес какое-то бесконечное число.
Фома, тупо глядевший в бумажку, просиял и под аплодисменты развел руками, мол, ничего не попишешь. На свое место он вернулся весь перемазанный мелом.
Лунин запоминал за несколько мгновений длиннющие ряды чисел и воспроизводил их справа налево и слева направо, вытворял еще какие-то чудеса с арифметикой, но все это была только прелюдия, разминка.
Лунин объявил, что обладает уникальными способностями читать любой текст пальцами и готов сообщить содержание любого послания, запечатанного в конверт, не вскрывая его. Одалиска забегала по рядам, раздавая желающим бумагу и конверты. Подбежала и к нам. Улыбнулась под газовой чадрой:
— Вот, возьмите!
Упорхнула, оставив после себя запах дурманящих духов и детского пота.
Лунин предупредил:
— Прошу вас, господа, не писать печатными буквами! Поверьте, не стоит без нужды упрощать эксперимент!
Я проверил конверт, бумагу. Вроде без обмана. Достал самописку. Загородив листок ладонью, чтобы никто из окружающих не мог подсмотреть, крупно вывел:
— ТЕЛЕГРАММА.
Потом мелко, обычным своим почерком:
— Смертоубийство не вменяется в преступление, когда оно было последствием дозволяемой законом обороны собственной жизни или целомудрия и чести женщины или жизни другого.
Хорошенько послюнявил, заклеил, еще раз проверил на свет, на ощупь и отдал подбежавшей Ане.
Собранные конверты были положены перед Луниным на поднос. Воцарилась тишина.
Он поднял руки, слегка потряс ими в воздухе, как бы давая им расслабиться, отдохнуть. Взял из кучки первый конверт, положил перед собой, зажмурился, стал водить над ним пальцами. Было видно, что лицо его напряглось, взбухли жилы. Лунин долго молчал, наконец произнес:
— Я помню чудное мгновенье.
Оглянулся.
— Встаньте, кто это написал.
В третьем ряду против нас встала растерянная девица. Покраснела, захлопала в ладоши. Лунин разорвал конверт и продемонстрировал пушкинскую строчку зрителям. Остановив восторг публики мановением руки, он взял следующий конверт. Там кто-то объяснялся в любви. Опять послание было прочитано без ошибки. В третьем была запечатана латинская гимназическая мудрость.
— У вас здесь ошибка, — скривил губы Лунин, прежде чем вскрыть конверт, — AD CALENDAS GRAECAS — в греках вы второпях пропустили E.
Лунин взял следующий конверт. Напрягся, закрыл глаза, стал водить по нему ладонью.
— Ну это просто — «Телеграмма». Встаньте, чье это?
Мне стало не по себе. Снова ощутил себя напроказившим мальчишкой. Я встал, моя глупышка вскочила тоже — на нас обернулся весь зал.
— Я же просил не писать крупно печатными буквами, — недовольным тоном произнес Лунин.
Чтобы как-то подбодрить себя, я крикнул:
— Читайте, читайте дальше!
Его пальцы несколько раз пробежали по бумаге. Он перевернул конверт, снова забегал пальцами, опять перевернул. Лицо его изменилось, самодовольная улыбка исчезла. Мне показалось, что он побледнел.
Наконец медленно произнес слово в слово написанное мной.
— Верно?
Снова все обернулись на нас.
Меня пот прошиб. Я только смог промямлить:
— Да, верно, — и брякнулся в кресло. Зал захлопал в ладоши. Анечка моя испуганно прижалась к моей руке, я стал гладить ее по головке.
— Все хорошо, чудо мое, все хорошо!
Объявили перерыв. Мы вышли в фойе. Моя крошка почувствовала, что со мной что-то не так, и стала хныкать. Зная, что уже не успокоить, повел в гардероб. Только стали одеваться, вдруг:
— Вот вы где, а я вас ищу, ищу!
Оглянулся — это Аня, с огромными накладными ресницами, в румянах. Завернута в толстый отцовский халат.
— Пойдемте, я познакомлю вас с папой!
Мы пошли за кулисы. Там было темно, тесно от пыльного хлама, воняло машинным маслом. Прошли мимо ряда обшарпанных дверей и остановились перед последней. Аня постучала.
Раздался недовольный голос:
— Кто там еще?
Аня заглянула в комнатку.
— Это мы!
Мой оживший учитель чистописания сидел с закрытыми глазами перед зеркалом и тер себе виски чем-то из флакона. Сильно пахло аптекой. Ободранные стены были обвешаны дохлыми афишами.
— Позвольте выразить вам мое восхищение, — начал я. — Вот уж не думал, что на свете еще случаются чудеса. Чтобы переплюнуть девицу Ленорман, вам остается только предсказать, помимо дня своей следующей смерти, дату и место воскрешения, а также сообщить по секрету, каким образом вы добыли тело моего покойного учителя господина Громова.
Лунин открыл уставшие желтые глаза. Его лицо было серым в свете тусклой лампочки, лохматой от пыли.
— Что вам еще от меня нужно?
— Прекрати! — вспыхнула Аня. — Это же Александр Васильевич!
Лунин снова закрыл глаза.
Аня растерянно улыбнулась, чтобы как-то сгладить нелюбезность отца.
— Пожалуй, мы пойдем, — сказал я. — Кажется, господин волшебник не в духе.
Лунин вдруг грохнул кулаком о стол. Флакон подскочил и, упав на пол, разбился. Во все стороны брызнули осколки, я еле успел закрыть рукой лицо моей крошке, чтобы не попало в глаза. Она заревела.