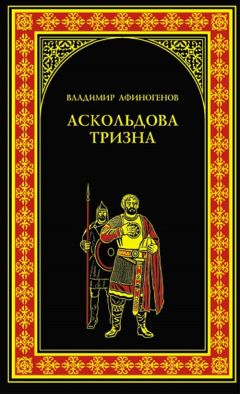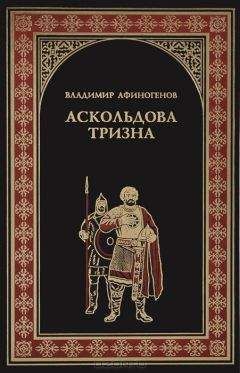Трагическая наивность этих верований приводила к тому, что многие люди, обязываясь по учению Монтаны соблюдать строгий аскетизм и безбрачие, бросали свои дома, семью, всё то немногое, что они имели, и шли часто голодные и босые, встречать Второе пришествие, которое так и не наступало…
Убеждения монтанистов разделяли и манихеи, тоже проповедующие неприятие роскоши, безбрачие, теорию о добром и злом началах, лежащих в основе мира, отрицающие Ветхий Завет, иконопочитание, святых, церковную иерархию, Богородицу, считающие Христа не богочеловеком и его существо не телесным, а призрачным, и относящие нашу церковь с её богатствами к царству Сатаны.
Движения монтанистов и манихеев, несмотря на запрет императора Юстиниана II «не устраивать совместных трапез», продолжались. В 726 году в «Эклоге» Лев III Исаврийский уже прямо говорил, что «монтанисты и манихеи подлежат казни мечом».
Призывает к такой расправе над павликианами и в своей рукописи Фотий. Далее он пишет, что «павликиане — те же манихеи; они стали называться вместо манихеев павликианами от некоего Павла Самосатского, сына женщины-манихейки Каллиники. Она же имела двух сыновей: этого Павла и Иоанна. И вот, обучив их манихейской ереси, послала их из Самосаты в Армениаку глашатаями этой ереси. Они, придя в селение Фанарию, там посеяли семена своей ереси. И с тех пор это селение переименовано в Эписпарис[8]».
Семена не преминули дать всходы, к тому же — обильные. По прошествии некоторого времени церковь византийская вынуждена была провозгласить анафему «почитающим Павла, сына Каллиники, вместо апостола Павла».
Тогда-то и начались жестокие казни павликиан. У лжепустынника Экзакионита, который расколол икону Богородицы, император приказал обрезать язык, а потом отделить голову… Другого — Николая, единомышленника Экзакионита, в муках высказавшего раскаяние, велел водить перед народом, а нечестивцу публично каяться в своём заблуждении; затем сослал Николая в монастырь, где его удушили.
И христиан, заражённых ересью, также повелевалось предавать смерти. Но особо яростное гонение производилось в фемах Армениаке и Колонее, откуда и пошло распространение павликианства. Очень злобствовали Фома, епископ Колонеи, и Паракондак, экзарх Армениаки. По их приказанию павликиан распинали на крестах, рубили головы, сотнями жгли на огромных кострах… И астаты[9] вынесли решение — уничтожить Фому и Паракондака. Прибегнув к хитрости, они их зарубили и перебежали в Мелитену, где эмиром у сарацин был Монохерарис. Получив от него город Аргаун, астаты осели там. И собрав вокруг себя еретиков, начали грабить Романию… Поэтому неудивительно, что павликиане первыми откликнулись на призыв турмарха Фомы Славянина идти войной на Константинополь.
В этом месте в мыслях своих я уличаю себя в том, что сочувственно отношусь к страданиям еретиков, и вместе с Фотием осуждаю их учителя Сергия-Тихика, приведшего многих к печальному концу. Верно: примкнув к восстанию, они стали «людоедами», то есть убийцами, и понесли суровую кару.
И тут я должен сказать о своих родителях…
Отец мой славянин, родом из Македонии, воспитывался в иконоборческой семье, и женился на девушке таких же религиозных убеждений. Когда разгорелось пламя народного гнева, он, не задумываясь, вместе с братьями и молодой женой оказался в стане Фомы Славянина. Братья погибли в сражении с болгарами у стен Константинополя, а его казнили позже, в 823 году, в году, когда я появился на свет вместе с сестрою, названной Максимиллой.
До двенадцати лет я рос в Тефрике, слушая, как и сестра, проповеди павликиан, познавая мученическую историю их движения. Жили мы бедно, еле сводили концы с концами, и тут представилась возможность отослать меня в Македонию к брату матери, который, как потом выяснилось, отошёл от иконоборства и встал на путь православия. Он быстро выбил из моей ещё неокрепшей головы павликианскую ересь и поместил в православную школу при одном монастыре в Славинии. По окончании её я принял обет иноческого пострижения и получил новое имя. Теперь я звался Леонтием.
В школе же у меня проявилась склонность к познанию древнегреческого языка и эллинским наукам, поэтому и был приглашён Мефодием, состоящим на военной службе, в его замечательную библиотеку на должность переписчика, а позже он определил меня к брату Константину.
Но об этом я уже говорил, записывая свои впечатления о совместных с философом путешествиях. К сожалению, туда не вошло да и не могло войти описание моего посещения Тефрики, когда мы ездили в Метилену к эмиру Амврию на богословский спор с сарацинами…
Тогда я долго колебался, поведать ли Константину, так же, как сейчас патриарху Фотию, о моих родственниках, да ещё самых близких и единственных на этом свете — матери и родной сестре, которые погубили свои души, став на путь ложного учения? Но решил: «Скажу!» Исходил из того, что измыслил апостол Павел: «Не обманывайте самих себя. Не думайте, что вы мудры в этом мире… Не хитрите. Ибо сказано: «Бог уличает мудрых в их лукавстве».
Константин, например, меня сразу понял, проводив в Тефрику с напутствием:
— Я верю, как и ты, в Господа Иисуса и твёрдо убеждён, что нет ничего, что было бы нечисто само по себе… Я даю тебе разрешение идти к ним не пастырем Божиим, а любящим сыном и братом, потому как любовь не перестанет существовать никогда. Всё остальное будет ненужным…
И пошёл я тогда. Увидел через тринадцать лет свою мать и Максимиллу, живущих, как и раньше, в такой же бедности, но гордившихся ею, признающих из апостолов Христа только Павла, поучавшего: жадному к богатству человеку нет места среди святого Божьего народа, а сестра к тому же строго придерживалась ещё и слов, что женщине лучше оставаться незамужней, тогда она будет счастливее…
И Максимилла жила без мужа, без детей, содержала нашу старую мать, работала за троих, ловко управлялась с хозяйством и скакала на коне, как заправский наездник.
С сестрой сложились у меня вполне мирные отношения; ни в чем не упрекали друг друга, хотя она с явным неудовольствием косилась на сундук, в котором лежало моё иноческое платье, — я ходил в Тефрике в одежде свободного гражданина, в монашеском мне бы не поздоровилось[10]…
Правда, поначалу Максимилла хотела убедить меня в правоте своей ереси, но увидела бесплодность попыток. Я же, следуя словам Константина, вёл себя в их доме как любящий сын и брат, и только. На прощание мы условились сноситься через Ореста, хозяина таверны «Сорока двух мучеников».
И это она вчера была у него и, если бы я приехал на пару часов раньше, то мы бы с ней встретились… Сестра передала весть, от которой моё сердце сразу похолодело: мама наша тяжело больна и скоро преставится…
Но в тот день ещё раз довелось испытать сильное волнение, когда я узнал от Фотия, что нас с Мефодием намереваются послать в Тефрику для обмена пленных. Значит, я могу ещё раз повидать родительницу перед её кончиной…
Как жалел, что рядом нет Константина. Он бы подал нужный совет перед тем, как состоится откровенный разговор с патриархом.
Буду действовать, как раньше. Если философ меня понял, то поймёт и Фотий.
Рукопись его заканчивалась описанием правления Феодоры[11]; незадолго до того, как её с дочерьми заточил в монастырь родной сын, она вдруг возымела сильное желание привести к правой вере павликиан на востоке или беспощадно уничтожить их.
Императрица послала сановников Судалу, Дуку и Аргира (последний Иктиносу-регионарху приходился отцом). Они одних распяли на деревьях, других поразили мечом, третьих бросили в морскую пучину. Так погибло до ста тысяч человек, а их имущество привезли в Константинополь и передали в императорскую казну.
Но я-то хорошо знаю, как складывалась потом судьба оставшихся в живых павликиан и как, непокорные, привлекая последователей своей веры, они продолжали воевать против целого ромейского государства…
В дверь постучали, вошёл Джамшид, неся на подносе фруктовые соки и хлеб. Увидев почти сгоревшие свечи, показал в улыбке ослепительно белые зубы, — догадался, что только сейчас я положил в стопку последний прочитанный мною лист…
До этого мне не удавалось подробно поговорить с юношей, указал на стул:
— Садись, Джам. Расскажи, как живёшь? Обижает ли кто?
— Хорошо живу, отче… Учусь. Никто не обижает, если только с товарищами по школе иной раз повздорю… Я же галерник, сила есть, за себя постою всегда, — другие это знают и не лезут…
— Молодец! — весело и искренне похвалил я негуса.
Лицо Джамшида, несмотря на похвалу, вдруг помрачнело, и он спросил:
— Леонтий, я узнал, что философ болен… Серьёзна ли его болезнь?…
— Джам, телесная боль излечима, и Константин может её превозмочь, а вот душевная…