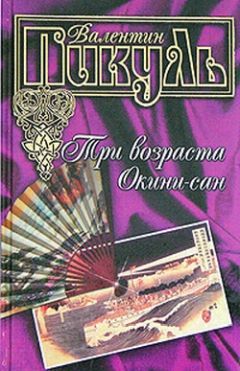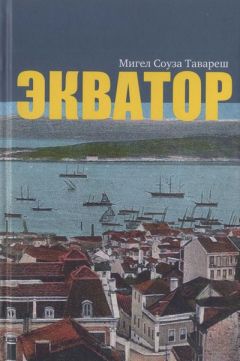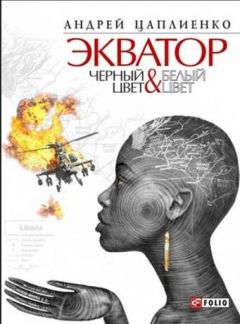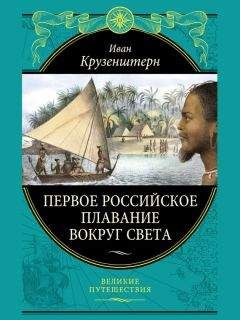– Ты у нас умница! – похвалил его Атрыганьев. – Но я тебя умнее. Скажи, разве венчание в церкви не есть ли то же подписание контракта, только не временного? Не все ли тебе равно, где соваться в петлю – в конторе Оя-сан или у нашего попа в церкви? В любом случае жених с невестой вступают в сделку! Только здесь, в Нагасаки, ты отдашь пятнадцать долларов – и все. А там, в России, платить будешь всю жизнь…
Атрыганьев переговорил с Мицу-Мицу по-японски, и она вынесла бутыль абрикотина московских заводов Н. Л. Шустова.
– Как поют наши матросы, «со смехом, братцы, я родился, наверно, с хохотом помру…». Давай выпьем за любовь! Оя-сан приберегает для тебя, хомяка, одинокую мусумэ из Нагойи.
– Нагойя… что это значит? – не понял мичман.
– Только то, что самые красивые японки родом из Нагойи. Чувствую, – добавил Атрыганьев, – что застрянем в Нагасаки надолго, так не будь каютным хомяком – срочно женись!
– А зачем мне это нужно? – отвечал Коковцев.
– Послушай, – заговорил минер далее. – Я ведь плавал достаточно. Видел и фрески в спальнях Помпеи, бывал даже в банях Каракаллы, но, поверь, там нет ничего такого, что было бы неизвестно японкам, владеющим секретом тридцати четырех способов любви. – Нежинским огурчиком, продетым на вилку, Атрыганьев указал на сидевшую в углу Мицу-Мицу. – Ты глянь на эту скромнейшую японскую богиню… Какова?
Коковцев глянул (японка улыбнулась ему).
– Так вот, – заключил Атрыганьев, с хрустом поедая огурчик, – все эти гордые и пресыщенные патрицианки Древнего Рима перед моей Мицу-Мицу выглядят жалкими недоучками. А ты еще осмеливаешься пренебрегать женщиной из Нагойи!
Коковцев безо всякого аппетита дожевал кету:
– Но в Петербурге я же поклялся Оленьке…
– Все поклялись, – сказав Атрыганьев, морщась. – Но каждой невесте, даже обляпанной полтавским черноземом, известен в любви только один способ, а тут… Стоит ли долго раздумывать? Кстати, эта Оленька живет на… На какой улице?
– На Кронверкском, – ответил мичман.
Атрыганьев, хохоча, покатился по циновкам.
– Извини. Но я бывал там. Каюсь… Этот статский, что мечтает о чине тайного, считал меня женихом своей дочери.
– Не может быть! – оторопел Коковцев.
– Пожалуйста, не переживай. Все женщины таковы…
Г-жа Попова и г-н Шустов, эти знаменитые спирто-водочные фирмы, разом ополчились на невинность мичмана.
– Если так, я… Я сейчас же иду к Оя-сан!
Атрыганьев горячо одобрил его решение:
– Кстати, мне в ноль четыре принимать вахту у тебя. Будь другом, выручи: если я малость задержусь, ты склянки две-три отбудь за меня на мостике.
– Конечно, – согласился Коковцев.
– Вот и спасибо. Потом, в море, расквитаемся! Ступай!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Все было похоже на скромную гостиницу: пустоватая простота в комнатах, лакированные полы были покрыты мягкими татами из камыша. Коковцев уселся перед низеньким столиком и долго не знал, куда девать ноги, затекающие от неудобства позы. Его окружили восемь юных японок, напоминавших едва окрепших девочек-подростков. Чрезвычайное обилие косметики скрадывало их подлинные черты. Это были мусумэ из «резерва» конторы Оя-сан, под надзором которой они и жили. Коковцев часто благодарил, пока они расставляли перед ним крохотные чашечки с угощениями. Тут была рыба в тесте, приправленная соей, водоросли-тамоширага, мхи и корни, огурчики-киури, крылышко утки, чуть присыпанное анисом, желе из овощей с яйцами и непроницаемый черный сосус с подогретым сакэ. Угощая гостя, мусумэ наперебой щебетали, успев наговорить Коковцеву всяческих комплиментов – ах, какой красивый, ах, какой умный, ах, как хорошо, что навестил их сегодня, а то ведь они уже собирались сами искать с ним встречи. При этом девушки подливали ему сакэ, и теплая рисовая водка приводила мичмана в содрогание от небывалого вкусового отвращения. После чего, усевшись рядком напротив, девушки сыграли для Коковцева что-то очень печальное на своих сямисенах, похожих на мандолины, и тихонько удалились. Пустота. Никого…
Но тут бодро вошла миловидная японка лет сорока – сама Оя-сан; кимоно женщины украшала брошь с бриллиантом из алмазного фонда царствующей династии Романовых. Семь лет назад великий князь Алексей (сын царя Александра II) плавал до Владивостока на фрегате «Светлана»; навестив Нагасаки, он задержался в объятиях Оя-сан, с чего и началась карьера этой мусумэ, богатеющей теперь на эксплуатации себе подобных. Дама держалась по-европейски свободно, широким жестом, перенятым ею от русских офицеров, она чокнулась с Коковцевым чашечкой сакэ, и бедного мичмана снова как следует передернуло. Потом женщина деловито спросила – какая из всех мусумэ понравилась ему больше.
– Они все хороши, – ответил мичман, – но я слышал, что у вас имеется девушка из Нагойи.
Оя-сан со вкусом выговаривала русские слова:
– Если ты задумался об Окини-сан, голубчик, она полюбит тебя… вместе с домом! Но задаток немалый – двести долларов, голубчик. – О том, сколько из этой суммы она заберет для себя, об этом Оя-сан, конечно же, умолчала.
В планы мичмана никак не входило становиться домовладельцем в Японии, но русская водка, разбавленная японским сакэ, и горькая обида на Ольгу сделали его смельчаком. Он готов хоть сейчас платить за все в мексиканской валюте.
– Но сначала покажите мне красавицу из Нагойи!
Оя-сан легонько хлопнула в ладоши, и Коковцев услышал за спиной неприятное шипение. Он обернулся: перед ним возникло костлявое чудовище с громадными оттопыренными ушами.
– Это нотариус, – объяснила Оя-сан. – Он принес контракт на Окини, заранее составленный… Подписывайте его!
Глаза нотариуса были добрыми, но шипел он так замечательно, что ему позавидовала бы любая гадюка.
– У нас в России, – сказал Коковцев, поднимаясь с татами, – никто и никогда не покупает кота в мешке…
Оя-сан сердито крикнула что-то по-японски. С громким треском раздвинулись бамбуковые ширмы – и Окини-сан опустилась на колени, застыв в глубоком поклоне, а за нею вразнобой качались сухие бамбуковые палки: так-так, так-так, так-так.
– Гомэн кудасай, – были первые слова женщины.
Она просила у них извинения за то, что явилась.
Окини-сан кланялась очень долго, и Коковцев сначала видел только пышный бант-оби, завязанный высоко на спине, потом разглядел удивительно сложную прическу, в которой волосы были унизаны черепаховым гребнем и булавками из красных кораллов. Коковцев кинулся поднимать женщину с пола.
– Голубчик, – четко выговорила Окини-сан русское слово (которое в заведении Оя-сан, очевидно, заучивалось всеми мусумэ в числе самых необходимых слов).
Теперь мичман видел нежное матовое лицо с узкими блестящими глазами, а губы девушки, чтобы не казались большими, были подрисованы кармином только посередине. Окини-сан была так хороша, что раздумывать далее не приходилось:
– Давайте контракт… Подпишу!
Бамбуковые палки перестали стучать, шипение прекратилось. Нотариус из-под халата извлек чернильницу, протянул Коковцеву европейское перо, а не кисточку. Мичмана ознакомили с условиями контракта: подданная микадо, отзывающаяся на имя Окини, поступает в его жены с содержанием в 15 долларов за один месяц, а Кокоцу-сан обязуется предоставить ей помещение, стол, одежду и наемную прислугу с рикшей. Отсчитав серебро, мичман еще раз оглядел красавицу из Нагойи:
– Но почему на месяц? Мой клипер еще никуда не уходит.
Нотариус отвечал ему на хорошем английском языке:
– К чему загадывать вперед? Мы, живущие вдали от вас, европейцев, не привыкли верить ни женщинам, ни пьяницам, ни морякам: женщина склонна обманывать, пьяница ничего не помнит, а моряк рано или поздно все равно потонет. Через один месяц с удовольствием продолжу контракт.
– All right, – согласился Коковцев.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Обитель семейного счастья оказалась вполне прилична: через мизерный ручеек был перекинут карликовый мостик, с которого мичман чуть не упал, в миниатюрном садике имелся маленький прудик, в нем крохотные золотые рыбки виляли золотыми хвостиками. Коковцев и Окини-сан остались одни. Мичман извинился, что ему предстоит еще ночная вахта:
– А я чертовски много выпил и, прости, должен выспаться. Нет ли в этом домике чего-либо похожего на кровать?
Окини-сан придвинула к нему коротенькое бревнышко с валиком, ласково уговаривая положить на него свою голову.
– Забавно! А как зовется такая подушка?
– Макура, голубчик, это макура.
– Звучит вполне по-русски… макура… макура…
Окини-сан уселась напротив него и, скрестив под собой ноги, всецело погрузилась в отсчет времени, сокращавшего их первое свидание. За четверть часа до полуночи, отрывая от макуры наболевший затылок, Коковцев уже не мог вспомнить, как это бревно называется. Он быстро собрался на вахту.