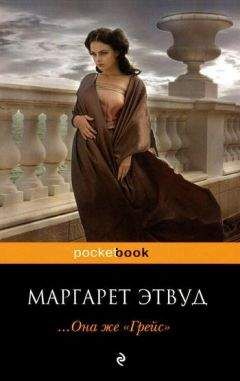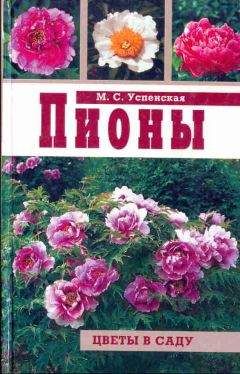Люди в такой одежде никогда не ошибаются. И никогда не пукают. Мэри Уитни говаривала: «Если в комнате у них кто-нибудь пукнул, можешь быть уверена, что это наделала ты». И если ты даже не пукала, лучше об этом помалкивать, иначе они возмутятся: «Какая наглость, черт возьми!», дадут пинка под зад и вышвырнут на улицу.
Она часто грубо выражалась. Говорила «наделала» вместо «сделала». Никто ее так и не переучил. Я тоже так говорила, но в тюрьме научилась манерам получше.
Я сижу на соломенном тюфяке. Он шуршит. Как вода на берегу. Ворочаюсь с боку на бок и прислушиваюсь. Можно закрыть глаза и представить, что я на море в погожий безветренный денек. Где-то далеко за окном кто-то рубит дрова: наверно, топор, блеснув на солнце, опускается вниз, и раздается глухой удар — но откуда мне знать, что рубят дрова?
В камере зябко. У меня нет платка, и я обхватываю себя руками: кто еще меня здесь обнимет и обогреет? В детстве я думала, что, если очень туго обхватить тело руками, можно стать меньше. Мне никогда не хватало места, ни дома, ни где, но если бы я сильно уменьшилась, то смогла бы куда-нибудь поместиться.
Волосы выбились из-под чепца. Рыжие волосы сказочной людоедки. Обезумевшей нелюди, как писали газеты. Изверга рода человеческого. Когда принесут обед, я надену помойное ведро на голову и спрячусь за дверью, чтобы напугать смотрителей. Если вам так нужен изверг — получайте!
Но я никогда этого не сделаю. Только мечтаю. Иначе они решат, что я снова сошла с ума. Люди говорят: «сошла с ума», будто безумие — это сторона света, как запад, например. Словно безумие — другой дом, в который как бы входишь, или совершенно чужая страна. Но когда сходишь с ума, никуда не деваешься, а остаешься на месте. Просто кто-то другой входит в тебя.
Я не хочу, чтобы меня оставляли одну в этой камере. Стены совсем голые — ни одной картины, и на окошке вверху нет занавесок. Смотреть не на что, поэтому пялишься в стенку. И через какое-то время на ней появляются картины и вырастают красные цветы.
Кажется, я засыпаю.
Уже утро, но которое по счету — второе или третье? За окном снова рассвело, поэтому я и проснулась. С трудом приподнимаюсь, щипаю себя, моргаю и встаю с шуршащего тюфяка: все руки-ноги натекли. Потом пою песенку — просто чтобы услышать свой голос и не было так одиноко:
Святый, святый Боже, Господь всемогущий.
Рано поутру хвалу Тебе слагаю!
Святый милосердный, святый и могучий,
Господь триединый, Троица благая!
Против гимна они ничего не смогут возразить. Это гимн утру. Я всегда любила рассвет.
Потом допиваю остатки воды и брожу по комнате, приподнимаю подол и мочусь в ведро. Еще пара часов — и оттуда будет вонять, как из помойной ямы.
Когда спишь в одежде, по-настоящему не отдыхаешь. Платье мнется, тело под ним — тоже. Такое ощущение, будто тебя свернули в узелок и бросили на пол.
Жалко, нет чистого фартука.
Никто не приходит. Мне дали подумать над своими проступками и прегрешениями, а этим лучше всего заниматься в одиночестве. «Таково авторитетное, взвешенное мнение, Грейс, которое основано на длительном опыте работы». В одиночном заключении, иногда в темноте. Есть тюрьмы, где тебя держат в камере годами, и ты не видишь ни деревьев, ни лошадей и ни единого человеческого лица. Говорят, от этого улучшается цвет кожи.
Меня запирали в одиночке и раньше.
— Закоренелая, лукавая обманщица, — говорил доктор Баннерлинг. — Сиди спокойно, я должен изучить форму твоего черепа, но вначале измерю твой пульс и дыхание.
Но я-то знала, что у него на уме. «Сними руку с моей титьки, грязный мерзавец!» — крикнула бы Мэри Уитни, но я смогла лишь пролепетать:
— Нет, о нет, не надо!
Они так крепко привязали меня к стулу рукавами, спереди пустили их крест-накрест, а сзади затянули узлом, что я не могла ни выгнуться, ни увернуться. Поэтому пришлось вцепиться зубами ему в пальцы, мы опрокинулись назад и повалились на пол, взвыв, как два кота в мешке. По вкусу они напоминали сырую колбасу и в то же время — влажное шерстяное исподнее. Лучше бы их хорошенько ошпарить да отбелить на солнце.
Вчера вечером и накануне ужина никакого не было — один хлеб и ни единого капустного листка. Этого и следовало ожидать. Голод успокаивает нервы. Сегодня будет немножко больше хлеба и воды, поскольку мясо возбуждает преступников и маньяков: они жадно, словно волки, вдыхают его запах, а потом пеняйте на себя. Но вчерашняя вода кончилась, а мне так хочется пить, просто умираю от жажды: во рту все пересохло, а язык распух. Так бывает у жертв кораблекрушения, я читала в судебных протоколах, как их носило по морю и они пили друг у дружки кровь. Тянули соломинки. Зверства людоедов, вклеенные в альбом. Уверена, что никогда бы так не поступила, как бы ни мучил меня голод.
Может, про меня забыли? Принесли бы еще поесть или хотя бы воды, а то я помру с голоду и вся сморщусь, а моя кожа высохнет и пожелтеет, как старая холстина. Я превращусь в скелет, меня найдут через месяцы, годы или столетия и спросят: «А это кто? Мы и забыли про нее. Ладно, сметите останки и весь этот мусор в угол, а пуговицы заберите. Слезами горю не поможешь, а пуговицы в хозяйстве пригодятся».
Как только начинаешь себя жалеть, тебя запирают на замок. А потом отправляют за капелланом.
— Прииди ко мне, бедная заблудшая душа! На небесах более радости об одной пропавшей овце.[11] Облегчи свою смятенную душу. Преклони колена. Скрести в отчаянии руки. Расскажи, как денно и нощно мучит тебя совесть и как очи жертв тебя неотступно преследуют по камере, горя, яко раскаленные угли. Пролей слезы раскаяния. Исповедуйся! Позволь мне отпустить тебе грехи. Позволь помолиться за тебя. Поведай мне все.
— И что он потом сделал? Какой ужас! А потом?
— Левую или правую руку?
— Как высоко?
— Покажи мне, где.
Кажется, я слышу шепот. А теперь кто-то смотрит на меня в дверной глазок. Я не вижу, но знаю, что смотрит. Потом стук.
Я думаю: «Кто бы это мог быть? Старшая сестра? Или начальник тюрьмы пришел меня отругать?» Нет, это не они, никто здесь не станет из вежливости ко мне стучать, а просто посмотрит в глазок и тут же войдет. «Всегда сперва постучи, — учила меня Мэри Уитни, — и жди, пока не разрешат войти. Неизвестно, чем они там занимаются, им ведь не хочется, чтобы ты все это видела. Они могут ковыряться пальцем в носу или в другом каком месте, ведь даже леди неймется почесать где зудит. И если увидишь пятки, торчащие из-под кровати, лучше не обращай внимания. Днем-то они все в шелках, а ночью у них отрастают поросячьи уши». Мэри была демократкой.
Опять стук. Как будто у меня есть выбор.
Я прячу полосы под чепец, встаю с соломенного тюфяка, расправляю платье и фартук и отступаю в самый дальний угол камеры. И решительно говорю — ведь всегда нужно сохранять достоинство, если это возможно:
— Войдите.
Открывается дверь, и входит мужчина. Он молод, как я, или немного старше, молод для мужчины, но не для женщины, ведь женщина моих лет — уже старая дева, а мужчина — старый холостяк лишь в пятьдесят, но, как говаривала Мэри Уитни, даже тогда он еще не потерян для дам. Вошедший высок, с длинными ногами и руками, но дочки коменданта не назвали бы его привлекательным. Им по душе томные мужчины из журналов, очень элегантные, такие прикидываются тихонями, и у них узкие ступни в остроносых сапогах. Этот же по-старомодному живой и подвижный, и у него довольно крупные ступни, хоть он и джентльмен или почти джентльмен. Вряд ли он англичанин, впрочем, трудно сказать.
Он шатен, волосы вьются от природы — такие называют «непослушными», потому что ему не удается их расчесать. Сюртук у него добротный, хорошего покроя, но поношенный — локти уже залоснились. На нем жилет из шотландки, она вошла в моду после того, как королева замирилась с Шотландией и построила там замок, увешанный, по слухам, оленьими головами.[12] Но сейчас я вижу, что это не настоящая шотландка, а обычная ткань в желтую и коричневую клетку. У него часы на золотой цепочке — значит, он не беден, хотя помят и неухожен.
Он не носит бакенбард, которые теперь носят все. Сама-то я их не шибко люблю, мне подавай усы или бороду, ну или вообще ничего. Джеймс Макдермотт и мистер Киннир брились, Джейми Уолш тоже, хотя у него и брить-то было нечего; разве только мистер Киннир носил усы. Когда я утром опорожняла его тазик для бритья, то брала чуть-чуть раскисшего мыла — он пользовался хорошим мылом, из Лондона — и втирала в кожу на запястьях, так что запах держался весь день, пока не подходило время мыть полы.
Молодой человек закрывает за собой дверь. Он не запирает ее — кто-то другой запирает ее снаружи. Теперь мы вдвоем заперты в этой камере.