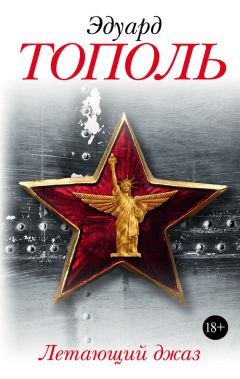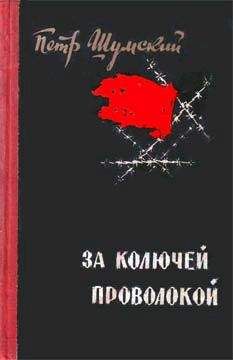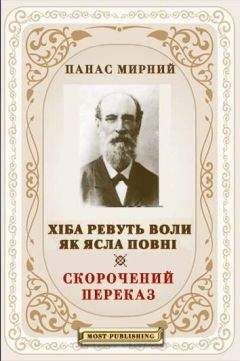— Маты, хто цэ е? — снова нетерпеливо спросила Оксана.
— Хто? — пришла в себя Мария. — Твiй новый батько, ось хто.
«Нового батьку» Оксана не приняла. Хотя она никогда не видела родного, не сидела у него на плечах и не гордилась, как ее школьные подружки, заслугами отца перед советской властью, а, наоборот, должна была скрывать, что она дочь раскулаченного, и везде говорить и писать, будто ее отец «пропал без вести», она не приняла Кривоноса совсем по другой причине. Ей было уже одиннадцать, и все эти одиннадцать лет она была единственной и безраздельной владычицей над своей матерью и бабкой. Больше того: угловатая, конопатая, вечно в каких-то царапинах и синяках из-за лазанья с пацанами по чужим садам и зарослям камыша и бурьяна, заполонившего крутые склоны Лавчанских Прудов, она все равно была принцессой в своей хате, а когда садилась обедать с бабушкой и мамой, то сразу за бабкиной молитвой «И хлiб наш насущний даждь нам днєсь… бо Твоє є Царство і сила і слава навіки, амінь!» мать и бабушка раскладывали еду, начиная с ее тарелки. И неважно, что то были только картошка и огурцы, выращенные на своем огороде, или борщ из крапивы и бурака. Главное: ей, Ксаночке, всегда доставался первый черпак и самый вкусный кусок…
А тут вдруг невесть откуда появился мужик, который не только по-хозяйски садился во главу стола, но которому и бабуля, и маты стали накладывать первые порции. Правда, с появлением Кривоноса стол в их хате преобразился. В лагере, после того, как на лесоповале упавшим бревном ему сломало ногу, Кривонос освоил бухгалтерскую профессию и теперь устроился счетоводом в местную заготконтору по обеспечению продовольствием всех служб Полтавского аэродрома, — да, теперь на их столе кроме картошки и пустого крапивного борща появились и мясо, и гречневая каша с топленым маслом, и вареники, и клецки из настоящей пшеничной муки, и даже шоколад «Аврора», который входил в питательный рацион первых советских летчиков. А потом стараниями и давними знакомствами Кривоноса до Лавчанского тупика добралось по столбам даже электричество и радио! И теперь керосиновая лампа не чадила в потолок, а радиоточка каждый день сообщала о загнивании мирового империализма, нерушимой дружбе Иосифа Виссарионовича Сталина и Адольфа Гитлера, присоединении Восточной Польши и Бессарабии к братскому союзу советских народов и триумфальном шествии по стране стахановского движения — к 1939 году оно охватило не только всех рабочих страны Советов, но и сотрудников НКВД, которые по-стахановски перевыполняли теперь планы по арестам шпионов и врагов народа.
Прошедший лагерную закалку «новый батько» никак не комментировал эти радостные сообщения и победные марши.
В целом мире нигде нету силы такой,
чтобы нашу страну сокрушила, —
с нами Сталин родной, и железной рукой
нас к победе ведет Ворошилов!..
Молча слушая репортаж из Брест-Литовска о совместном параде немецких и советских войск, «освободивших город от польских помещиков и капиталистов», — параде, который принимали «генералы-побратимы» выпускники Рязанского танкового училища Хайнц Гудериан и Военной академии имени Фрунзе Семен Кривошеин, — Кривонос, сжав зубами цыгарку, с каким-то злым остервенением чинил полусгнившую в конце двора беседку, посадил вокруг нее сирень и вишню, а за ними — в самом дальнем углу двора — покрыл крышей дощатый, как скворечня, нужник.
Да, как ни крути, а именно его трудами в их маленькой хате жизнь, как сказал бы товарищ Сталин, стала лучше, жить стало веселее. Однако в первый же день появления этого Кривоноса Оксану вдруг перевели из маминой кровати на раскладушку в бабушкину комнату! И по вечерам он, обняв мать за талию (а то и еще ниже!), владыкой уводил ее на «их половину» и еще закрывал за собой дверь!
А в свои одиннадцать Оксана уже знала, что это значит — и школьные подруги, и рисунки в школьном сортире давно объяснили ей, как и откуда дети берутся. И не раз по ночам, разбуженная скрипом материнской кровати и зажатыми материнскими стонами, Оксана на цыпочках подкрадывалась к их половине и прикладывалась ухом к двери. Что этот злыдень делал там с мамой, отчего она так сладко стонет и просит: «Да… да… Щэ… щэ… Нэ зупыняйся!..»?
Оксана любила мать. Нет, «любила» — это не то слово. Она обожала ее всем своим горячим маленьким сердцем. Когда они ложились вместе спать, то самым высоким, самым теплым и нежным моментом прошедшего дня была минута полного счастья — обнять маты, уткнуться головой в теплую грудь, глубоко вдохнуть медовый запах и всем худеньким тельцем прижаться к ее большому горячему телу. И так — совершенно счастливой — расслабиться и заснуть в безопасном коконе материнского тепла, чтобы утром проснуться вместе с ней, любимой…
Кривонос лишил Оксану этого счастья. Теперь там, за плотно закрытой дверью, на той же материнской кровати не Оксана прижималась к матусе, а этот хромой Кривонос. Да так крепко прижимался, что кровать скрипела и даже стукалась спинкой о стену… А потом там щелкала зажигалка, через закрытую дверь тянуло папиросным дымом, и слышен был прокуренный голос:
— Цэ чудо, шо меня в тридцатом арестовали. А кабы сейчас? Живым бы не вышел…
В старой бабушкиной хате было, если не считать холодных сеней, всего три комнаты — кухня с кирпичной печью, которую топили кизяком, дровами и углем, горница-вiтальня в три окна, прилегающая к тыльной стороне печи (здесь теперь спали бабушка и Оксана), и спальня, обогреваемая третьей стенкой печки. Под низкими, крапленными мухами потолками каждый звук, даже стрекот сверчка, расходился по всей хате.
— Тихо, — шепотом просил из спальни голос матери. — Ксанка не спит.
— Да спят они обе! — громко, в полный голос отмахивался Кривонос и продолжал о сокровенном: — За то время, шо я в лагере був, в НКВД вже три чистки було. И всех без разбору к стенке ставили…
Недослушав эти уже неинтересные ей разговоры, Оксана уходила на свою раскладушку и под громкий, с присвистом бабушкин храп долго не могла заснуть, нянча в душе сладостный материнский стон «Да… Щэ, Семен, щэ… Нэ зупыняйся!..» и обдумывая планы мести им обоим…
Между тем, с тех пор как у них поселился Кривонос, мать оставила работу поломойки в ГПУ-НКВД и расцвела, как роза из бутона — раздобрела в бедрах и груди, округлилась лицом и даже туфли себе на рынке купила — лодочки-лакирашки. Но что же он делал с ней по ночам такого, что она и днем, при дочке и матери своей, миловалась с ним, прижималась к нему то бедром, то плечом, а то ногой под столом?
Не в силах больше терпеть материнскую измену, Оксана наказала ее — вместо школы сбежала на пруд и сховалась-спряталась в прибрежных зарослях. Летом склоны холмов у Лавчанских Прудов так зарастали крапивой и высоким, выше человеческого роста, бурьяном, что даже собаки в них не совались. Но дети… Местные пацаны уже давно нашли тут обвалившиеся лазы, и теперь Оксана мстительно забилась в один из них и жадно ловила громкие крики матери, которая бегала по берегу пруда и звала: «Оксана! Ксана! Убью засранку!..» Нет, Ксана не вышла на эти крики, не отозвалась. И только к вечеру, проголодавшись, тихо пробралась к своей хате и, помня, что мать собиралась убить ее, выдрать, как сидорову козу, укрылась, зареванная, в беседке, отремонтированной Кривоносом. А мать — даже не ударила! А села рядом, обняла и прижала к себе, да так, что у Оксаны слезы брызнули из глаз, всю мамкину блузку намочили…
С тех пор за обедом и ужином Оксана ревниво, а порой и кокетливо поглядывала на своего «нового батьку». Она входила ту пору, когда девочки еще неосознанно становятся конкурентками своим матерям.
Однако «батькой» Оксаны сорокалетний Кривонос пробыл недолго.
На рассвете 22 июня 1941 года они проснулись от ужасного грохота. Никогда, даже в самую ужасную грозу, земля так не сотрясалась и небо так не гремело. Испуганно выскочив из хаты, они увидели, как несколько самолетов со свастикой на крыльях с надсадным воем ныряют с неба в пике на соседний аэродром. А у земли, на выходе из пике, от них отрываются тупорылые черные бомбы и летят на склады горюче-смазочных материалов и на прижавшиеся к бетонным стоянкам советские Пе-2 и Як-1 — бомбардировщики и истребители. И тут же — жуткие, ужасающие взрывы, столбы пламени и черного дыма, ошметки стали и алюминия. От каждого взрыва сотрясались все полтавские хаты и садовые деревья усыпали землю неспелыми плодами.
— Немцы! Фашисты! — орал полуголый, в одних трусах, Кривонос. В ярости он бил искривленной ногой по забору и уже не сдерживал в себе все, что за лагерный срок накопил к товарищу Сталину: — Мудак, бля! Сука! Бандит кавказский! Знал же, что нападут, а приказал снять пушки со всех самолетов! Нам даже стрелять нечем!