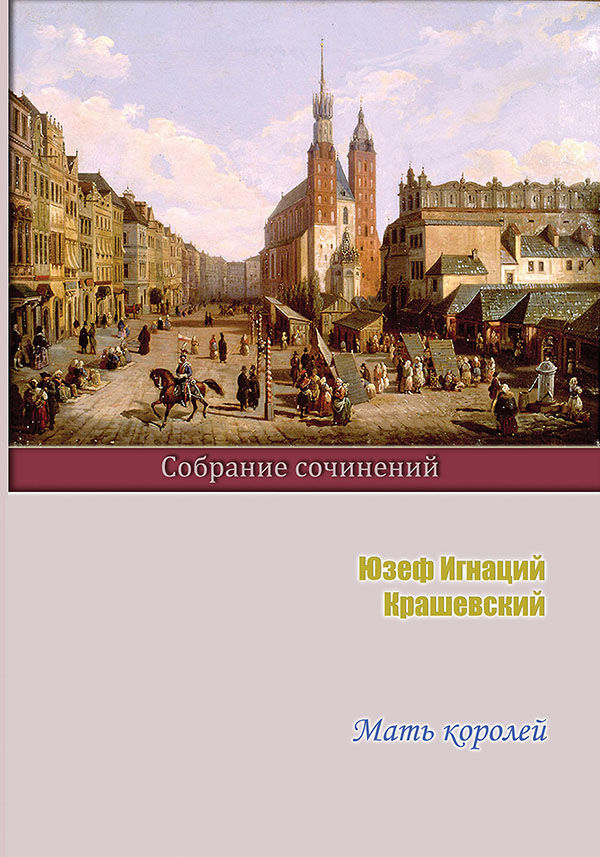жаль делалось, глядя на беднягу, а это унижение монашеской одежды пробуждало сострадание.
Аудиенция, данная бедняге, казалось оконченной; пришельцу уже было нечего там делать, получив от канцлера обещание дать работу, но не выгоняли его и он сам выходить не думал. Он стоял у двери, притулившись к стене. Духовная особа с цепью, княжеский канцлер, больше других им интересовался. Чувствовал в нём брата по перу, потому что во всём этом довольно многочисленном обществе их, тех, что умели читать и писать, возможно, было только двое.
Бобрек, быть может, должен был удалиться, хоть уходить ему не хотелось, если бы в эти минуты во дворе не послышались живо скачущие кони, а опытное ухо сидящих у стола уловило, кроме топота лошади, звон железа, объявляющий о прибытии вооруженных людей.
Все обратили на дверь любопытствующие взгляды. Сделалось тихо, а в сенях голос маршалка объявил о чьём-то прибытии.
Как всегда, когда что-то производило на него чрезвычайное впечатление, Семко поднял голову и его брови грозно стянулись. Тогда его красивое и молодое лицо тем, кто помнил старого Зеймовита, немного напоминали его хмурый и строгий облик.
С головой, обращённой к двери, князь ждал объявление маршалка о прибытии какого-то гостя, не догадываясь, кто это мог быть. Впрочем, гость не был там редкостью, потому что шляхта охотно к нему приезжала. Пользуясь тем, что внимание было отведено от его бедной особы, клеха, стоявший у двери, немного отошёл от неё и прильнул к стене в углу так, что его почти было не видно.
Однако он не уходил.
К двери приближался голос маршалка, открыли две её створки и в дверном раме появилась, как бы оправленная в неё, красивая фигура, как статуя рыцаря. Мужчина был средних лет, весь как из железа выкованный, державшийся просто, высокого роста, одетый по-дорожному и по-солдатски.
С головы он не снял ещё блестящего шлема, на верхушке которого виден был растянутый на прутьях, завязанный белый платок, словно отмеченный кровавыми каплями.
Это была его эмблема – Старый Наленч. Не была она такой красивой для глаз, как у многих в то время придворных рыцарей и турнирных поединщиков, которые больше на панских дворах рисовались перед женщинами, чем в поле перед врагом.
Доспехи на нём не были ни позолоченными, ни эмалированными, они были простые, железные, но сделанные по мерке, для кафтана, и сидели на нём как с иголочки.
Все её части: наплечники, наколенники, нагрудник подходили друг к другу, а ремешков им в походе не ослабляли. Огромный меч на рыцарском поясе висел сбоку, маленький мечик имелся под рукой. Из железного обрамления выглядывало лицо с усами и короткой бородкой, мужественное, загорелое, полное, красное, с искренними и мужественными глазами, которые лгать не умели. Смотрели смело и гордо.
Увидев его, князь поздоровался, не вставая с сиденья, некоторые из шляхтичей, сидевших за столом, поднялись с лавок и вытянули руки, восклицая:
– Бартош! Бартош!
Он, сняв шлем, пошёл прямо к князю.
– Милостивый пане, – сказал он, – простите, что приезжаю как татарин… (он огляделся вокруг, как бы хотел быть уверенным, что чужих тут нет). Меня пригнало сюда большое и срочное дело.
– Но вы для меня всегда милый гость, – сказал Семко весело, любезно глядя на него. – Вы в доме, в котором, я надеюсь, воевать ни с кем не будете; идите сначала снимите тяжёлые доспехи и приходите к нам.
Рыцарь стоял ещё, улыбаясь приветствующим его паношам.
– Милостивый пане, – отпарировал он, – я только сниму с плеч это железо и обратно его сразу придётся надеть, потому что времени мало, срочная работа!
Он развернулся и ушёл, но по дороге братья шляхта вытягивала ему руки и задерживала, глядя с уважением и любовью.
Едва за ним закрылась дверь, пирующие князья очень оживлённо начали разговаривать.
– Бартош из Одолянова, Бартош из Козьмина, – разносилось со всех сторон. – Когда приезжает Бартош, то это не напрасно.
Канцлер тем временем, разглядывая залу, увидел в углу клеху. Дал ему знак.
– Идите в мою комнату, – сказал он, – подождите там капельку, незамедлительно приду.
Бобрку вовсе не хотелось оттуда выходить именно теперь, когда надеялся услышать что-нибудь интересное; он почесал себе голову, неловко поклонился, скривил губы и рад не рад вышел за дверь.
В сенях, немного подумав, всё ещё с той покорностью, которая, согласно пословице, пробивает небеса, но на земле чаще всего пробуждает презрение и пренебрежение, он у самого глупого из челяди, чтобы временно привлечь его на свою сторону, спросил, где комната канцлера.
Ему её сразу же показали, тут же около замкового костёла. Клеха пошёл в эту сторону, но или из неудержимого любопытства, или по привычке, по дороге он задержался около людей и коней, прибывших с паном Бартошем из Одоланова, который приехал поклониться князю.
Его духовное одеяние, хотя потёртое, всегда пробуждало немного уважения; слуги, выглядящие так же гордо, как сам пан, на вопрос: «Откуда прибыли?» – отвечали, что приехали с паном Бартошем из Калиша.
Одно это имя уже достаточно говорило.
В Куявии и Великой Польше имя старосты, пана на Одоланове, Венцбруке, Козьминке, Небожицах и Злотой было так повсеместно известно, что не нуждалось ни в каком объяснении.
Это был муж великой храбрости, живого ума, ничем не устрашимой отваги, беспокойного и предприимчивого духа и притом такой любитель рыцарских дел, что когда ему не хватало их дома, готов был искать и за границей. Может, это было ложью, но рассказывали, что, скучая по рыцарским турнирам и рыцарским забавам, порою он даже у крестоносцев их искал, а они, что польского имени и человека вынести не могли, пана Бартоша из Венцбрука уважали и хвалили, говоря, что ни тевтонским и никаким из рыцарей запада не уступал.
Но знали его также как гордого и непреклонного пана, с которым по-доброму можно было сделать всё, силой же – ничего, потому что над собой не терпел никого.
Ибо в военном ряду Бартош стоял за десятерых, бился страшно, а когда брал в широкие ладони обоюдоострый меч, готов был человека разрубить им пополам. С копьём в руке, когда им протыкал всадника, не было примера, чтобы кто-нибудь в поединке удержался в седле.
Это он был вызван на поединок Белым князем, и, когда должен был сдаться, так поранил ему копьём руку, что тот долго на ней вынужден был лежать и уже потом навсегда у него отпала охота к военному ремеслу.
Поэтому достаточно было сказать о Бартоше из Одоланова или из Козьмина, чтобы люди знали, что это означало или какую-нибудь войну, или рыцарские состязания.