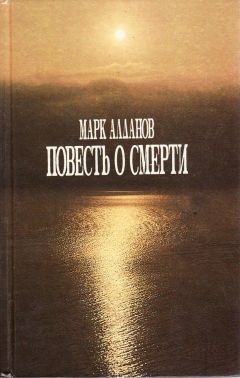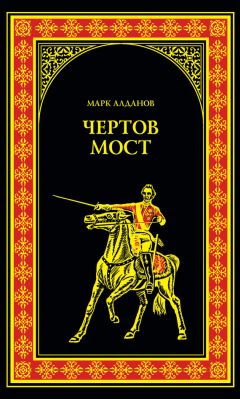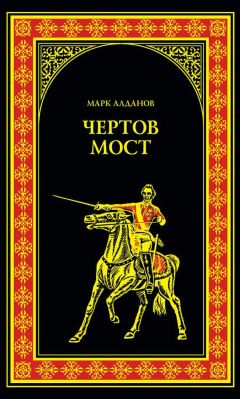Этой профессиональной способностью Бальзак обладал в необычайной мере. Он всегда был раздвоен: сам жил и перевоплощался в других людей, — живших по своей логике, по своему характеру, по своим инстинктам. При необыкновенном множестве его действующих лиц, перевоплощение стало для него настолько привычным делом, что он не всегда мог от него освободиться и отходя от письменного стола. Очень часто продолжал в жизни дело столь ему знакомое по литературе: перевоплощался не в Растиньяка, в Гранде, в Годиссара, а в десяток Бальзаков, составляющих для истории единого Бальзака. В Верховне был Бальзак, страстно влюбленный в Ганскую (тоже частью им вымышленную). В Париже теперь был Бальзак, собирающийся жениться на богатой и, разумеется, очаровательной женщине. Были и другие роли. Он так много играл в жизни, что, быть может, сам больше не замечал, где начинается и кончается сцена; чаще жил выдуманной жизнью, чем совершенно подлинной, собственной.
Как человек он был еще талантливее, чем как писатель. Даже не любившие его люди иногда поддавались его обаянию, чарам его ума и даров, его странного благодушия, которое, при беспощадном изображении людей в его романах, могло быть только показным. Когда он бывал в ударе, богатство его фантазии, яркость слов, выразительность речи создавали впечатление гениальности. А порою в его глазах — Теофиль Готье называл их «черными бриллиантами» — мелькало и что-то вызывающее смутное беспокойство у слушателей, — особенно когда он говорил о смерти, о гадалках, о таинственных предсказаниях, о Сведенборге.
Через неделю после его возвращения в Париж произошла та уличная манифестация, с которой началась революция 1848 года.
.......
…Но преизлиха насыщшемся сладости книжные.
Св. Илларион
В начале марта, под вечер, Лейден зашел за Роксоланой в кондитерскую и застал ее в волнении. Оказалось, что во Франции произошла революция.
— Мне сказала моя гадалка! И все говорят! Французский король бежал. Провозглашена р е с п у б л и к а. — Теперь Роксолана уже гораздо бойчее произносила такие слова: чтение газет пошло ей в прок.
— Да тебе-то что за дело?
Она смущенно ему объяснила. Ей сказали, что сейчас во Францию пускают кого угодно, хотя бы и без паспорта. Кроме того, именно теперь настало время открыть в Париже кабинет. Мадмуазель Ленорман свою карьеру сделала потому, что во Франции была революция.
— Ах, вот оно что! — сказал Константин Платонович.
Они успели совсем надоесть друг другу. Лейден твердо решил в марте вернуться домой. Роксолана вздыхала и всё больше хотела уехать от него в Париж как можно скорее. Он желал, чтобы она заговорила о разлуке первой. Она надеялась, что первым заговорит он: тогда верно денег можно будет получить больше. Оба пускали в ход небольшие хитрости: Роксолана вскользь говорила о том, как хорошо ей было в Константинополе; Лейден тоже вскользь замечал, что, когда они познакомились, у нее не было ни гроша: да и так ли уж ей было хорошо, если она продавалась на рынке?
— Ну, что-ж, ничего не поделаешь. Поезжай в Париж, — сказал он всё же с грустью. — Я дам тебе денег.
— Сколько у тебя осталось?
Он назвал немалую, но и не слишком крупную сумму.
— Я дам тебе половину, — сказал он. Роксолана просияла. Она долго обдумывала, сколько потребовать, собиралась запросить много, потом сделать скидку. Но он сразу предложил ей больше, чем она надеялась получить. По правилам надо было бы поторговаться. Однако Роксолана этого не сделала. «Верно, он врет, а всё-таки он щедрый. Инглез дал меньше, а другие и ничего при прощаньи не давали. Она его поцеловала».
— Ты щедрый, а я люблю тебя. Ах, как жаль, что у тебя жена! Вот спасибо.
Оба почувствовали облегчение, особенно Константин Платонович. «Торг отнял бы последние следы поэзии, а так ли много ее и было?» — подумал он. Воспользовавшись тем, что она пошла за покупками, он выложил на стол из чемодана часть своего золота и спрятал всё остальное. Когда Роксолана вернулась, произошел дележ. Тут она его удивила и тронула: прослезилась и последний маленький столбик в пять монет нерешительно придвинула к его куче:
— Возьми… Это тебе… Тебе дальше ехать, вдруг еще останешься в дороге без денег… Ты щедрый, — говорила она сквозь слезы, опять целуя Константина Платоновича. Он был смущен. Поспорил, но она пяти золотых так назад и не взяла, хотя жертва далась ей не легко: видимо гордилась своим поступком.
Он объявил ей, что должен отлучиться: тоже надо что-то купить. Роксолана догадалась, обрадовалась, но не показала этого. Лейден отправился к ювелиру. По дороге он вспомнил, что москвичи подносили на прощанье знаменитым иностранным артисткам браслеты с дорогими камнями, названия которых выписывали первыми буквами слово «Москва»: малахит, опал, сапфир, калцедон, винис, аметист. «Какое же слово выписать? „Роксолана“ очень длинно и камней на девять букв я не найду, да и слишком дорого будет стоить. „Константин“ — еще хуже; не выгравировать ли на браслете месяц и число их встречи?» Но ювелир сказал, что этого скорее, чем в неделю, нельзя сделать. «Нет, долго», — подумал он и купил обыкновенное бриллиантовое кольцо; истратил двенадцать золотых, чтобы наказать себя за хитрость. «Значит, она на своей жертве сделала выгодное дело». Роксолана была довольна и собой, и им. В этот день — в самый необычный час — был «любовный угар». Затем он повел ее в ресторан и заказал для нее ее любимые блюда и вина. Сладких блюд на этот раз она съела три; думала, что скоро придется платить самой.
Были разговоры о том, что они непременно когда-нибудь встретятся опять.
— Я, может быть, через год-два приеду в Париж по делам, — говорил он.
— Значит, м о ж н о получить паспорт? — спросила она обиженно.
— Я буду хлопотать.
— А как ты меня там найдешь?
— Ты мне напиши твой адрес в Киев bureau restant. У нас это называется «до востребования».
— «До востребования», — повторила она и попросила, чтобы он ей записал эти два слова. Своего адреса он ей не дал, но она не обиделась. Ни инглез, ни другие ей никогда своих адресов не давали и все просили писать bureau restant.
Они, впрочем, пожили еще некоторое время во Флоренции. Роксолана, — после легкого колебания, заказала себе несколько платьев. Разумеется, гораздо приятнее было бы заказать их в Париже, но здесь, она знала, и после раздела денег, заплатит русский старик. «Да и кто их знает, может, если революция, то и портнихи не шьют?.. Нет, верно портнихи шьют и в революцию». Лейден и сам ее упрашивал не торопиться: расставаться с ней навсегда оказалось не так легко, как он прежде думал, — слова «навсегда» и «никогда» были во всем для него самыми страшными из слов.
В последний день он особенно старался ее баловать. По своей привычке думать литературно, очень усилившейся в Италии, в иногда с ним случавшиеся минуты самооболыценья, даже говорил себе, что он, как сторож в камере заключенных, играет в карты с человеком, которого завтра казнят. Но тут же себе отвечал, что никакая казнь Роксолану, слава Богу, не ждет. «Может быть, она и рада, что расстается со мной. И права, что рада, я верно скоро совсем сойду с ума на загробной жизни», — думал Константин Платонович. От того, что он так много времени уделял мыслям о вещах потусторонних, Лейден, как иногда и прежде, испытывал что-то вроде гордости, точно это ему давало некоторый патент на духовное благородство.
На следующее утро он проводил Роксолану на почтовую станцию. Достал для нее самое лучшее место. Хотя еды, особенно сластей, она взяла с собой много, в последнюю минуту он купил ей еще винограда, который она особенно любила (говорила, впрочем, что константинопольский гораздо лучше итальянского). Роксолана плакала. Он смотрел на нее, стараясь навсегда запомнить ее лицо. Затем долго махал платком вслед карете. Затем вспомнил, что так же было в Киеве при прощании с женой.
«Ну, вот, и кончено, совсем кончено!» — думал он, одновременно с грустью и с облегчением. Понимал, что никогда больше Роксоланы не увидит. «Был вроде Би-Шара, а теперь опять Ба-Шар!» Чувствовал себя как те временные генералы в иностранных армиях, которые после окончания войны становятся снова полковниками; хотя ничего постыдного в этом нет, всё же несколько неловко: был генералом и больше не генерал. Он зашел в ресторан около Палаццо Веккио, где так часто обедал с Роксоланой. Лакей, давно оценивший его щедрость, почтительно справился, уж не больна ли синьора.
— «Она уехала», — кратко ответил Лейден. На лице лакея выразилось не то сожаление, не то сочувствие. «Да, разжалован… Был ли я хоть счастлив в эти дни? Пожалуй, несколько дней. Да когда же я вообще был счастлив? В детстве? В ранней юности? Эти годы принято считать счастливыми, но это самообман: ясно помню, что я и тогда себя счастливым не чувствовал. Таким верно уродился. Было, конечно, больше физической бодрости, энергии, задора, только и всего. А счастье это другое. Не знал его, не знал. Что же это такое, если оно даже не сувенир?.. Сувенир тут не подходящее слово… Кажется, я стал в последнее время несколько путать слова. В почтовой конторе я думал, как неестественно звучит по-русски слово „почтальон“… Теперь уже и намека больше не будет ни на какое „счастье“. Ненадолго же я помолодел от константинопольского чуда. Этакий Фауст, с кошельком вместо Мефистофеля… Я когда-то думал, что у Гете старый Фауст гораздо интереснее молодого»…