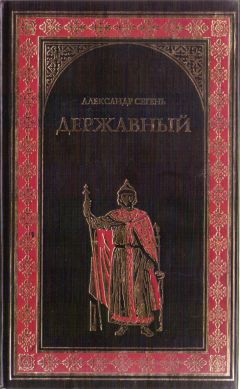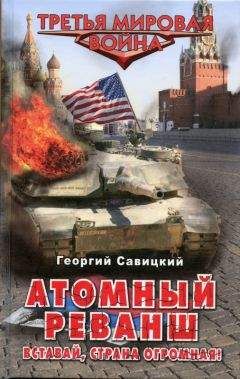Из этой кельи, где был свершён суд над изменниками, все перешли в трапезную. Игумен Геннадий и митрополит Филипп отправились исповедовать приговорённых к смерти. Покуда они не вернулись, никто не притрагивался ни к еде, ни к напиткам. Наконец первым в трапезную вошёл митрополит. За ним показался и Геннадий. Гул разговоров, царивший доселе, резко затих.
— Свершилось, — тихо промолвил Филипп. — Все исповедались мне и Геннадию вельми благочестиво и с покорностью приняли смерть свою. Помолимтесь, братие, о новопреставленных. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих грешных — Димитрия, Еремея, Куприяна, Василия — и прости им вся согрешения их вольная же и невольная, даруя им Царствие Небесное и причастие вечных Твоих благих и Твоея бесконечный и блаженныя жизни наслаждение.
Едва он закончил молитву, появился и Ощера. Вид у него был суровый и усталый.
— Всё выполнено, государь, по твоему приказанию, — отчитался он. — Изменники казнены честь по чести, без поругания. Вскорости их омоют и, положа во гробы, отправят в Новгород.
— Ты бы хоть головы их принёс показать, — с недовольством пробурчал Андрей Горяй.
— Это лишнее, — возразил великий князь, поморщившись. — Спасибо тебе, Иван Васильевич, — обратился он к Ощере. — Садись ко мне ближе, и первую чару выпьем за упокой славного сына твоего, Константина Ивановича!
Глава тринадцатая
ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕДЬКИ КУРИЦЫНА
— Эй, грамотей! — окликнул Федьку дьяк Василий Мамырев. — Собирайсь!
— Куда? — всполошился Федька.
— В Новгород, — почёсывая за ухом, отвечал Мамырев. — Вольная тебе пожалована великим князем. Более ты не пленник, родимец.
— Василий Петрович… Да как же это?.. А ты же обещался!.. — заскулил Федька.
— Ничего не попишешь, — вздохнул дьяк, — мне приказ вышел. Слыхал, чего? Великий государь приказал ссечь головы Дмитрию Борецкому, Селезнёву Василью, Ерёме Сухощёку и ещё одному, не упомню, из тех, которые на изменном докончании свои подписи поставили. И уже обезглавлены они, а теперь приказано везти их в Новгород со всеми почестями, а в сопровождение дать пленных ваших, чтобы при этом и волю им пожаловать. Так-то вот. А у нас все пленные, как ты знаешь, в Коростыни, здесь вас всего ничего. Придётся и тебе ехать с безголовыми телами. Ну ты не печалься. До Новгорода доедешь, мертвецов сдашь — и ворочайся. Приезжай сразу в Коростынь. Мы все при государе туда перебираемся. А там я тебя и пристрою к нашему ведомству.
— Ежели так, тогда ладно, — обрадовался Федька, который уж было решил, что его насовсем гонят. А он мечтал всем сердцем как-никак, но перебраться на службу к великому князю Московскому. Федьке было двадцать лет, родился он в Новгороде, на Торговой стороне, его отец был купцом, по новгородским меркам — небогатым, но зажиточным, из рода Курицыных. Всё отцу не нравилось в жизни, начиная с семейного прозвища. Что это за Курицыны такие? Разве может быть великий человек по прозванию Курицын? То ли дело — Борецкие! И наперекор родовому имени Василий Фёдорович назвал старшего своего сына Соколом, а младшего — Волком. Правда, при крещении оба, конечно, получили христианские имена. Сокол был наречен Феодором, а Волк — Иоанном. Но в будущем Василий Фёдорович мечтал, что потомство Фёдора будет уже прозываться Соколовыми, а потомство Ивана — Волковыми. Так что с прозвищем в скором будущем можно будет покончить. Гораздо труднее воспитать сыновей так, чтобы они делами своими превзошли славу Борецких и прочих наибогатейших семей Господина Великого Новгорода — Коробовых, Есиповых, Овиновых, Лошинских, Горшковых, Григорьевых, Селезневых и многих других.
А вот как раз купеческой жилки ни в Соколе, ни в Волке не наблюдалось. Сокол, он же Федька, тянулся к грамоте, книгам, быстро схватывал иные языки и к двадцати годам хорошо говорил на литовском, лядском и немецком наречиях. Спутался с какой-то угринкой и по-угрински балабонить от неё научился. И всё манило его к каким-то непутёвым наукам и истинам, вместо того чтобы набираться уму-разуму в торговой учёбе, а ведь Новгород не грамотой, не ратным делом силён, а именно ею, матушкою, торговлей. Оттого и знаменитые купцы западные включили его в своё превеликое сообщество, ганзу по-ихнему.
Брат Федькин — тот и вовсе был глуп до всего, вечный рюмза и тихоня, ни к наукам, ни к ремёслам, ни к чему не годящий. Не Волк, а барсук какой-то, хотя сам страшно любил, чтобы его называли не Ваней, а Волком, гордясь именем, которое ему дал отец при рождении. Федька, как ни странно, любил его и жалел, потому что видел, какая несчастная ждёт его судьбишка — из-под каблука под каблук переходить до самой кончинушки. О себе же Фёдор был точного мнения, что рано или поздно, а избавится он от отцовской опеки, сбежит куда-нибудь и сделается важной персоной при дворе какого-нибудь знаменитого государя. А хотя бы и москаля Ивана. Как только отец затевал клясть Ивана Васильевича, внутри у Федьки так и взбрыкивало: «Погоди, вот уйду на службу к москалю, да стану при нём первейшим боярином, тогда поглядим!..» Он и по-москальски научился безошибочно говорить, и если доводилось общаться с москалями, ни разу не икнёт, не щокнет, всё правильно речёт, по-ихнему, и они удивлялись, как это он хорошо московскую речь освоил. Ведь даже знатные новгородцы не умеют, да и не хотят в гордости своей вместо «писня» — »песня» сказать, вместо «хлиб» — «хлеб», вместо «що» — «что».
Чем дальше, тем больше укреплялся Федька в желании навсегда покинуть Новгород. Отца он ненавидел, купцом быть не хотел, разговоры о святой вольности и горячо любимом вечевом колоколе его бесили, и к тому же всё сильнее становилась его привязанность к угринке, которую и звали-то как по-книжному — Школастика Сочка[82]. Её отец, Иштван Сочка, был снадобщиком и держал хорошую зельницу[83] неподалёку от Чудного дома — главного дворца могущественной Марфы Борецкой, расположенного средь пышных садов, примыкающих к Митрополичьей и Фёдоровской башням Кремля.
Туда, в эти сады, суждено было теперь Федьке везти обезглавленное тело старшего сына Марфы, Дмитрия Исаковича Борецкого…
Так вот, Иштван Сочка. У него имелось огромное множество замечательных книг, писанных по-немецки и на латыни. Постоянно гостюя у снадобщика-угрина, Федька стал и латыни учиться, быстро осваивая её. Иштван и мечтать не мог об ином зяте, если бы отец Федьки не был против, а Федька знал, что отец непременно будет против. Тем временем любовь брала своё, и в тайных свиданиях Фёдор Васильевич и Школастика Иштвановна вскоре перешли определённую грань. Он нежно называл её Ласточкой, она его — «мой Сокол», или по-мадьярски — «Шольом». Оставалось только одно — уйти от отца. Случай представился, когда возглавляемый Марфой Борецкой бабий триумвират стал собирать ополчение для отпора войскам Московского князя. Федька вызвался идти воевать добровольно, и отцу пришлось смириться с этим под угрозой того, что имущество его могло быть разорено за отказ дать сына в ополченцы. А Федьке только того и надобно было. Он честно сообщил Ласточке, что намерен сдаться в плен и напроситься на службу к великому князю Ивану Васильевичу, ибо слыхано, что тот зело привечает у себя всяких книжников и разумников, умеющих легко схватывать отвлечённые науки. А уж когда это произойдёт, он возьмёт к себе Ласточку, и они наконец поженятся. Перейти в православную веру Школастика Иштвановна была готова ради этого хоть сейчас. С тем Федька и покинул Новгород, поступив в отряд к самому Дмитрию Исаковичу Борецкому.
Во время Шелонской битвы Федька сдался сразу же, как только увидел, что пленён Борецкий. Это с обеих сторон было разумно: он и добровольно пленился, и сохранив достоинство — мол, где мой военачальник, там и я. Потом, после битвы, Федька вызвался переводить разговоры с пленными литовцами и немцами, и тут его заприметил дьяк Мамырев, коему было поручено великим князем вести подробную летопись похода. После долгой беседы о всяких книжностях Мамырев поручил Федьке сделать описание Шелонской битвы, и когда тот выполнил поручение, дьяк остался очень доволен и многое из Федькиной повести вписал в свою летопись. В награду он пообещал пристроить Федьку при дворе великого князя в качестве подьячего. И держал парня при себе уже не как пленного, а почти как своего.
И вдруг — на тебе! — снова ехать в Новгород! Да как же? А если там с отцом нос к носу столкнёшься?! Тогда что? Но делать было нечего, приходилось выполнять приказ великого князя. К пяти часам пополудни всё было готово — тела обмыты, одеты в дорогие платья, укутаны в чёрный аксамит и уложены в добротные дубовые гробы, которые поставили на телеги — каждому гробу отдельная повозка. К каждой повозке были приставлены по два новгородца из пленённых на Шелони. Федька нажимал на то, что он состоял при Борецком в тот самый миг, когда они оба были взяты в плен, и потому ему сам Бог велел сопровождать гроб с телом старшего сына Марфы. Федьке же выдали и опасную грамоту, по которой он мог проехать через все московские и псковские заставы, прежде чем доберётся до Новгорода. Мамырев снабдил Федьку достаточным запасом еды и питья, даже вишнями из государевых корзин. Когда солнце стало клониться к закату, скорбный поезд тронулся в путь.