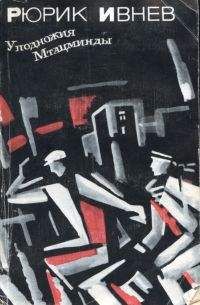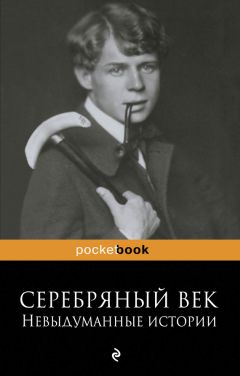— Обиташвили.
— Георгий?
— Да.
— Как его здоровье?
— Гораздо лучше. Его спас, по правде говоря, Куридзе.
— Я слышал об этом, — улыбнулся Амоян. — И вам спасибо, товарищ Смагин, что вы вырвали его из застенка Кедиа. Обиташвили мы ценим и любим. Он молод, горяч, но закалка у него крепкая. Ну вот, значит, так и договоримся. Желаю успеха вашей лекции. Мы с Арзумяном проберемся в какой–нибудь укромный уголок на галерке консерватории и оттуда послушаем вас. Если до этого возникнут какие–нибудь вопросы, дайте знать через Арзумяна, и мы встретимся у него. А теперь, — обратился он к Арзумяну, который вошел в комнату, — пошли–ка Этери на разведку.
Арзумян позвал свою дочь. Вошла девочка лет четырнадцати, сдерживая лукавую улыбку, блестя шустрыми насмешливыми глазами. Она, как взрослая, степенно поздоровалась со Смагиным, потом, посмотрев с видом заговорщицы на отца, прошептала:
— Сейчас?
— А ты как думаешь, — засмеялся Арзумян.
— Нет, я хотела…
— Ну быстро, быстро, — прервал ее отец. — Амоян торопится, да и Смагин что–то поглядывает на часы — очевидно, спешит на свидание. О, молодость, молодость! —шутливо проговорил он вздыхая. — Все бегут, все куда–то стремятся. Одному мне некуда спешить.
Этери стремительно выбежала на улицу, не забыв захватить с собой пустую бутылку из–под боржоми, очевидно для отвода глаз. Через несколько минут она, запыхавшись, ворвалась в комнату.
— Ни души!
Амоян простился с ними.
Арзумян и Смагин наблюдали из окна, как он вышел на пустынную улицу, медленно, вразвалку зашагал по направлению к первому переулку и не торопясь завернул за угол.
— Ваш дом под обстрелом? — спросил Смагин.
— Если бы они только подозревали, что здесь бывает Амоян, то оцепили бы весь район. Для профилактики они рыщут полегоньку по всему городу. Лучше всех их навострилась узнавать Этери. Она так ловко делает вид, что не замечает кедиевских молодчиков, что они не обращают на нее никакого внимания…
Смагин сказал:
— Мне тоже пора. Я хочу зайти к Варваре Вахтанговне, матери Гоги Обиташвили.
— Я не знал ее имени, но слышал б ней. Товарищи говорили мне, что у Обиташвили чудесная мать.
Арзумян приоткрыл дверь в соседнюю комнату и крикнул:
— Этери, дружок, а ну–ка, повтори вояж. В дверях появилась Этери, спросила отца:
— Папа, опять?
— Опять, доченька, только брось свою дурацкую бутылку. Она никого ни в чем не убедит. — Теперь возьму с собой бидон.
— Уж лучше возьми утюг.
— Ну, папа, ты только и знаешь, что смеяться. Когда я иду на разведку с пустыми руками, мне кажется, что все на меня смотрят.
— Хорошо, хорошо, — засмеялся Арзумян, — бери хоть керосинку, но только иди.
— А ведь ты угадал, папа. Она у нас сегодня закапризничала, вот я и отнесу ее в починку.
— Но это недалеко? — улыбаясь, спросил Смагин.
— Нет, тут, за углом.
Через несколько минут Этери вбежала обратно:
— И керосинка сдана, и уроки выучены, и дорога свободна.
Осада консерватории. Внезапный каприз электричества. Громкие аплодисменты и змеиное шипение. Янычары господина Кедиа. «Смагина нет дома». Институт благородных девицКонсерватория напоминала в этот вечер осажденную крепость. Не только билетов, но и мест больше не было, но это нисколько не смущало атакующую публику, всеми правдами и неправдами старавшуюся проникнуть в зал.
Секрет заключался в громадном интересе ко всему, что касалось Советской России и Ленина.
Это была первая лекция Смагина, в которой он решил коснуться не только вопросов искусства, но и вопросов о будущем Советской России.
Небывалое скопление народа, бурное сборище людей, стремившихся услышать правдивое слово о Стране Советов, носили явно антименьшевистский характер. И это чувствовали те немногочисленные сторонники правительства Жордания, которые по тем или иным соображениям решили присутствовать на лекции.
Трудно с точностью установить, кто из них что думал и кто как действовал, но во всяком случае можно сказать с уверенностью, что между их настроением и внезапным мраком, наступившим в зале за пять минут до начала лекции, была какая–то связь.
Смагин был уже на эстраде, когда внезапно погас электрический свет и наступила пугающая тишина.
Но не прошло и нескольких минут, как на эстраде уже появились две большие керосиновые лампы. Вслед за ними было размещено несколько ламп и в других местах зала, где только возможно было установить их без риска вызвать пожар.
Эти несколько минут без электричества стали, однако, той увертюрой к лекции, которая наэлектризовала весь зал. Смагин говорил с особенным подъемом о том великом историческом событии, которое потрясло весь мир: об Октябрьской революции, о Ленине, о Советской России.
Когда он закончил первую часть своей лекции, раздались громкие возгласы: «Да здравствует Советская Россия!» — и поднялась такая буря восторга, свидетелем которой он давно уже не был.
То ли это вышло случайно, то ли администрация консерватории приняла соответствующие меры, но именно в этот момент вдруг вспыхнуло электричество, при свете которого керосиновые лампы показались смешными и нелепыми.
Яркий свет, озаривший зал, вызвал новую бурю аплодисментов.
Под эту бурю, сквозь тесную толпу народа, Смагин прошел в один из консерваторских классов, приспособленных для отдыха лектора.
Гоги и Мзия уже ждали его у дверей.
— Вот бы сюда Ледницкого, — засмеялся Гоги.
— Не беспокойся, здесь есть и свои Ледницкие, — ответил Смагин.
— Спасибо вам, — обратилась к Смагину Мзия, — все рассказы Гоги про ваши выступления меркнут перед тем, что я услышала сегодня.
— Это публика сегодня настроена так, что любое правдивое слово о Советской России кажется блеском ораторского искусства, — ответил Смагин.
К ним подошел Куридзе.
— Правильно сказал Александр Александрович. Главная причина успеха в том, что всем осточертела меньшевистская ложь и простые слова правды воспринимаются как откровение. Знаете, кого я здесь видел? — продолжал он, обращаясь к Смагину. — Домбадзе, секретаря Гегечкори. Вот уж кто пропотел изрядно!
— Гоги, слышишь? — засмеялся Смагин.
— Он, вероятно, проклинает себя за то, что перед лекцией беседовал с вами, как с джентльменом… — начал Гоги, но Смагин, не дослушав фразы, кинулся к Вершадскому, точно выросшему из–под земли.
— Николай Андреевич! Какими судьбами?
— Подробности письмом, — загадочно улыбнулся старый бакинец и тихо добавил: — После лекции расскажу все.
— Не скрывайте, по крайней мере, — сказал Гоги, — надолго ли к нам?
— Узнаете в свое время. Доложу вам, товарищи, что успех небывалый. Для лекции выбран такой момент, когда достаточно одной искры, чтобы вспыхнул пожар.
В лекторской комнате становилось все теснее и теснее. Многих из пришедших Смагин видел впервые, некоторые лица казались ему знакомыми, хотя он и не мог вспомнить, где и когда он с ними встречался, и был изумлен, увидев приближавшегося к нему Абуладзе под руку с поэтом Атахишвили.
— Не ожидали? — натянуто улыбнулся Абуладзе.
— Да, признаюсь…
— Мы же не большевики, которые не терпят чужих мнений, — объявил Абуладзе.
— Все старо, как мир, — вмешался в разговор Атахишвили. — Падение Римской империи нельзя было предотвратить. Нельзя также предотвратить и распад Российской империи. На ее развалинах возникли Другие государства, и как бы вы ни старались убедить нас, что одно из государств, образовавшееся на территории бывшей империи, а именно Московия, может вновь повторить успешный маневр Ивана Калиты, мы этому не поверим, ибо это противоречит железной логике истории.
— Большевизм не что иное, как маска, которую нацепила на себя Россия с наивной верой дикаря, думающего, что Европу можно обмануть. Так что вам, Смагин, придется раскаиваться, — добавил Абуладзе.
— Вы думаете, что мне придется раскаиваться? — улыбнулся Смагин.
— Ну вот, вы и поняли. Что и требовалось доказать, — ехидно произнес Атахишвили.
— А не кажется ли вам, — вспыхнул Смагин, — что не мне, а вам придется раскаиваться?
— Возможно, — сухо ответил Атахишвили, — но это только в том случае, если вы с вашими русскими единомышленниками захватите меня живым и посадите в подвал…
— Не делайте такие большие глаза, — воскликнул Абуладзе, обращаясь к Смагину, — у вас в России это не новинка, а продолжение той же линии Малюты Скуратова, Петра, Бирона.
— Здесь не место для дискуссии, — сказал Атахишвили. — Я решил в ближайшие дни устроить в клубе «Новое искусство» большой диспут, — не митинг, подобный сегодняшнему, на который может явиться уличный сброд, а серьезный диспут, и если вы рискнете приняты в нем участие, то останетесь в блистательном одиночестве.
— Если до этого времени не окажетесь в далеко не блистательной одиночке, — добавил Абуладзе.