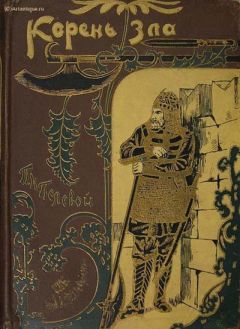— Довольно! Замолчи, царевна! Вижу я, что не ошиблись те, кто меня остерегал, кто уговаривал меня беречься Годуновых!.. Вижу, что я под кровом своим укрыл в тебе врага лютого…
— И я вижу, государь, что мои враги не дремлют, что они ведут свои подвохи, вижу и то, что не нужна я более тебе! Посмеялся ты надо мною, Дмитрий, и Бог тебе судья! Тебе и матери твоей, царице Марфе. Я знаю, что у тебя уже припасена невеста и что она прибудет вскоре сюда, в Москву… Желаю тебе удачи и счастия во всем! Но отпусти же меня отсюда, отпусти в обитель. Только в ней и место мне, только в ней и приют, где голову мне преклонить, где могу укрыться от стыда и от укоров людских!
— Я не удерживаю тебя, иди, пожалуй, царевна. Кто с моими врагами дружит, тот мне также враг! Тебе не любо здесь, так, может, там приглянется и любее будет. Прощай, царевна!
И он поспешно встал и направился к двери, а Ксения вслед ему сказала дрожащим от волнения голосом:
— Уходи, государь, уходи!.. Не сам ли ты сказал, что я тебе враг! Ступай к тем, которые тебя лучше, вернее, крепче сумеют любить, и пусть мои девичьи слезы не отольются тебе слезами! Уходи, уходи скорее…
Дмитрий гордо глянул на Ксению и вышел из ее терема.
…Последнее свидание с Дмитрием Ивановичем не обошлось Ксении даром. Жестокие, невыносимые потрясения последней недели подорвали силы царевны настолько, что она слегла в постель и заболела сильнейшей горячкой. На некоторое время печальная действительность скрылась из глаз ее и сменилась бесконечно долгим бредом, в котором настоящее путалось с прошедшим, страшные образы, созданные разгоряченным воображением, мешались с знакомыми и дорогими лицами и воспоминаниями и мирная обитель представлялась в редкие минуты успокоения желанным, милым приютом для наболевшей, исстрадавшейся души несчастной царевны. Чаще всех других знакомых и милых образов прошлого царевна видела около себя свою бывшую боярышню Иринью, бежавшую когда-то из-под сурового надзора кадашевской боярыни. Ксении грезилось, что эта самая боярышня Иринья находится тут, при ней, около ее постели, и то взбивает ей изголовье, то оправляет складки одеяла, то прикрывает ей ноги теплой телогреей… Царевна не раз даже очень явственно чувствовала, как Иринья своими нежными и гибкими руками прикладывала к горячему челу ее что-то холодное и ароматное, приносившее ей облегчение и прохладу.
— Это ты, Ириша? — не раз окликала царевна порхавший перед нею призрак боярышни, но не получала ответа.
— Дай мне руку, Ириша, — в изнеможении шептала по временам Ксения и, чувствуя чью-то теплую и мягкую руку на голове своей, засыпала, приговаривая. — Спасибо, Ириша, мне так легче.
Сколько времени продолжалось это состояние бреда, эта тяжелая борьба природы с недугом, Ксения не знала. Но в первый же день, когда бред наконец ее оставил и окружающая действительность снова глянула ей в очи, царевна была поражена тем, что увидала перед собой ту же боярышню Иринью, которая ей грезилась в течение всей болезни. Ксения стала всматриваться с некоторым недоверием в это знакомое личико и вдруг услышала знакомый голос:
— Что так в меня вперилась, царевна? Аль все еще не признаешь своей причудливой и непокорной Иришеньки?
— Так это точно ты? И не в бреду мне это грезится? Дай мне обнять тебя! Откуда ты взялась и как сыскала меня?
— Как станет тебе полегче, — весело проговорила Иринья, — все расскажу тебе, царевна! А теперь тебе не надо тревожиться, не то и Бог весть сколько времени продлится еще твой недуг.
— А где же мама моя?
— Боярыня-мама? — с некоторым смущением отвечала Иринья. — Она в отлучке… Обещала скоро вернуться…
— А Варенька?
— Та в хлопотах: все по хозяйству, да с ключами, да со служней. Да усни же, государыня царевна, не то уйду я от тебя, тогда ведь все равно заснешь со скуки.
И царевна послушно засыпала, положив руку Ириньи себе на голову.
И только уж много дней спустя Иринья рассказала царевне, как она бежала и как скрывалась по обителям до самой смерти царя Бориса.
— А тут, когда приехал в Москву царь Дмитрий Иванович, уж я не опасалась больше, с теткой и с дядей приехала в Москву, сюда же приехал и нареченный мой жених, Алешенька Шестов, и думали мы с ним венчаться здесь же, на романовском подворье… Да вдруг я слышу, что ты больна, царевна, и что на половине твоей неладно… Что ты в беде и в горе… А тут и на Алешеньку стряслась беда…
— Какая? Что такое? — тревожно спросила Ксения.
— Лучшие два друга его крамольниками объявились государю и сложили голову на плахе…
— Петр Тургенев и Федор Калашник? Так они ему друзьями были?
— Ох, закадычными! Они и выкрали меня тогда у строгой-то боярыни… Упокой Господь их души!..
Иринья набожно перекрестилась и продолжала, как бы стараясь поскорее перейти к другому:
— Вот мы с женихом и порешили, царевна, нашу свадьбу отложить, пока уляжется в душе это горе горькое, пока и ты оправишься и соберешь кругом себя надежных, верных слуг… А до тех пор я тебе всей душой служить готова!
— Ириша! А где же мои-то люди? Где мои боярыни? Где мама?
— Мама не стерпела твоей беды, и после того, как ты слегла, она дня через два вдруг разнемоглась поутру, а к вечеру и Богу душу отдала… А боярыни твои все разом тебя покинули. Казначея да кравчая к царице Марфе приняты во двор, а все другие ждут приезда Марины Мнишковны и ей хотят ударить челом о службе и о жалованье.
— А Варенька?..
— Варенька со мною за один — и мы тебя не выдадим, царевна! Мы с тобою и в мир, и в Божию обитель, куда бы ни занесла тебя судьбина!..
Ксения притянула к себе Ирину и горячо ее поцеловала. После некоторого молчания она с большим трудом собралась с мыслями, как будто припоминала что-то, и наконец сказала:
— А та? Как ты ее назвала?.. Ну, невеста царская! Когда она приедет?
— На будущей неделе ждут сюда ее отца с послами от Жигимонта Польского, а там, все говорят, она уж не замедлит…
Ксения вдруг заволновалась, схватила Иринью за руку и поспешно проговорила:
— Ириньюшка! Голубушка! Я не хочу… Я не могу здесь дольше оставаться… Скорее! Уехать, уехать отсюда!
— Государыня царевна, к отъезду твоему давно уж все готово… Ждали только, чтобы ты оправилась немного… Боярин Рубец-Масальский и то по вся дни заходил сюда со спросом о здоровье твоем!..
— Скажи боярину, что я здорова и завтра же готова выехать отсюда… Ступай, скажи сейчас!
Несколько дней спустя после отъезда царевны Ксении из Москвы царь праздновал новоселье в том новом деревянном дворце, который он выстроил на самом кремлевском холме против соборов. Дворец был выстроен на славу: резной, фигурный, вычурный, раскрашенный пестро и ярко, покрытый крышей из поливной блестящей черепицы.
Все окна были обведены тройными карнизами с позолотой, скобами, все острия и верх кровель украшены мудреными и причудливыми флюгерками в виде раззолоченных драконов, птиц и зверей. Какие-то страшные хари тянулись под крышей, в виде карниза, какие-то истуканы поставлены были в нижнем жилье между окнами и, надо сказать правду, очень не нравились степенным московским людям. Но более всего не нравилось всем то трехглавое и трехзевное изображение «адского пса Цербера», которое хитроумный немец-строитель поставил у самого входа на крыльцо царского дворца. Пес был вылит из меди, и из среднего зева его вытекала струя воды в особый поддон в виде медного таза, другие два зева адского пса разевались и громко стучали и хлябали своими медными зубатыми челюстями.
В этот-то новый дворец перебрался царь Дмитрий Иванович, ожидая к себе из Польши дорогих гостей: тестя Мнишка с громадной свитой и свиту невесты, для которой приготовлены были в новом деревянном дворце особые, роскошно отделанные покои.
Царское новоселье праздновалось шумно, разгульно и весело. На царский пир приглашены были не только все боярство, весь придворный чин, но даже и служилые иноземцы, и пан Доморацкий с товарищами, начальник польской дружины, приведенной в Москву Дмитрием. Пир начался вскоре после полудня, а когда ночной мрак давно уже опустился и окутал весь Кремль и царские хоромы, пир все еще длился, шумный, громкий, широкий, «на всю руку»: «Гуляй, мол, душа, пока жизнь хороша!». Яркий свет лился широкими красноватыми полосами из окон на площадь перед дворцом, засыпанную снегом и заставленную конями и колымагами гостей. Нестройный говор нескольких сот голосов, заглушаемый то песнями, то громкой музыкой, доносился явственно до толпы, которая собралась позевать перед дворцом на царский праздник и терпеливо топталась на снегу с утра и до ночи.
— Гуляет государь-батюшка на весь крещеный мир! — слышались голоса в толпе.
— То-то и оно, что не крещеный мир, а вон и всяких нехристей, и немчинов, и поляков с собою за стол сажает! Вот это — не рука!