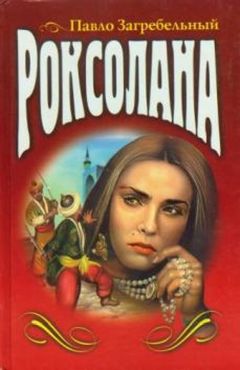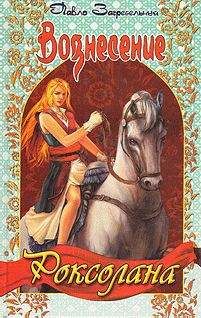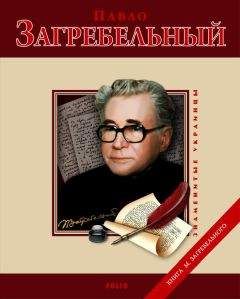— Кто эта султанша? Откуда она? Почему имеет такую власть над султаном? — засыпал посол вопросами Луиджи Грити.
Грити довольно прищурил глаз.
— Можете доложить Совету десяти, дорогой Дзено, что это именно я купил ее для султана.
— Вы? Невероятно! Как это могло быть?
— Точнее говоря, я покупал ее не для Сулеймана. И не ее, не эту девушку, а просто красивую роксоланку. Дал задаток одному старому мошеннику и велел привезти от роксолан что-нибудь необычное. Среднее между богом и дьяволом. Потом уступил девчонку своему другу Ибрагиму. После султана это второй человек в империи.
— Если не считать султанши.
— Это еще увидим. Я продал эту девушку Ибрагиму, а он, не справившись с нею, не придумал ничего лучше, как подарить ее в гарем султана.
— И тот знает об этом?
— Кажется, нет.
— А если узнает?
— Поздно! Кроме того, зачем ему узнавать?
— Вы рассказываете невероятные вещи.
— Разве может быть что-то невероятное в этой невероятной стране? Пишите побыстрее дожу, что вы первый узнали о происхождении загадочной султанши, которая может в будущем иметь довольно загадочное влияние на Сулеймана, и что настоящее имя ее Роксолана.
— Роксолана? Почему Роксолана? Она же Хасеки!
— В гареме ее зовут еще Хуррем, то есть веселящаяся. Иногда — Рушен, или сияющая. А Хасеки — это титул. Даже янычарским агам дают такое звание. Чтобы показать, что человек стоит ближе всех к султану, принадлежит султану, как его собственная душа. Для Европы пусть будет Роксолана. Одно ваше донесение в Венецию — и мир узнает о еще одной могущественной женщине.
— А как же с вашим правом крестного отца?
— Уступаю его в пользу Пресветлой Республики, — засмеялся Грити. — Я великодушен, как все купцы, во всем, что не касается их прибыли.
— Невозможно предвидеть все прибыли, какие можно получить благодаря этой женщине, — пробормотал Дзено.
— Добавьте: и весь возможный вред! — воскликнул Грити. — Мы с вами присутствуем при рождении величия, запомните мои слова! Возьмите даже легенды — что они вам дают? Женщина рождается из ребра мужского, одна богиня — из головы Зевса, другая — из пены морской. А какая рождалась из рабства, преодолевая рабство и достигая наивысших высот власти? Советовал бы вам позаботиться о проявлении внимания к этой женщине. Правда, никто еще не знает, что она любит, каким подаркам оказывает предпочтение, кроме того, трудно состязаться в щедрости с Сулейманом. Вы слышали о платье в сто тысяч дукатов?
— Не только слышал, но видел собственными глазами это платье во время торжественного приема в Топкапы.
— Тогда мне уже нечего вам больше сказать.
Неизвестно как, но слухи о непостижимом влиянии Хасеки-Хуррем, или Роксоланы, на султана почти мгновенно распространились в столице. Русский посол Иван Морозов, который привез от Великого московского князя слова о мире и дружбе, был принят Пири Мехмед-пашой хоть и с положенной торжественностью, но без обещаний.
— Все зависит от милости и воли его величества падишаха, — сказал великий визирь.
Но кто-то намекнул, что полагалось бы поднести дары не только султану, но и султанше, и Морозов отобрал для Хасеки драгоценнейших красно-черных соболей.
После Родоса ухудшились отношения между Портой и купеческой республикой Дубровником. Султан не мог простить дубровчанам, что их военные корабли не помогали ему в перевозке войска на остров. Кроме того, среди захваченных в плен защитников твердыни оказалось несколько человек, назвавшихся купцами из Дубровника. Этого уже было более чем достаточно, чтобы на дубровницкие товары немедленно была повышена пошлина, корабли Дубровника в турецких водах безжалостно преследовались, грабились товары, людей забирали в рабство. Из Дубровника прибыло в Стамбул посольство, но его никто не хотел принимать. И снова кто-то подсказал: поднести дары из дорогих тканей молодой султанше, может, это смягчит сурового султана.
Хуррем снова была в положении. Сын Махмед был такой хилый, что все ждали: если умрет не из-за своей слабости, то уж чума приберет его непременно. Но холодные ветры постепенно отгоняли гнилой дух от Стамбула, чума отступала, крошка Мехмед, хоть и захлебывался криком от неведомых болей, упорно держался за жизнь, а маленькая Хуррем словно бы для того, чтобы окончательно укрепиться и одолеть всех своих завистников и недругов, готовилась подарить султану еще одного сына.
Снова султан не хотел видеть никого, кроме своей Хуррем, ночи проводил с нею, а дни отдавал заботам о справедливости, советовался с мудрецами об улучшении и утверждении законов, о войне больше не вспоминал, словно бы забыл, что его огромное войско, собранное лишь для новых и новых захватнических походов, немедленно распадется, как только остановится в своих грабежах. Когда на диване пузатый Ахмед-паша, который, расталкивая всех, рвался к званию великого визиря, кричал, что пора выступать в новый поход, султан спокойно говорил:
— Пусть уляжется пыль.
— Какая пыль? — таращился, не понимая, на членов дивана Ахмед-паша.
— От великих походов Повелителя Века, — спокойно усмехался старый Пири Мехмед-паша.
— Разве новый караван должен ждать, пока засохнет верблюжий помет после каравана старого? — не унимался воинственный Ахмед-паша.
Султан хмуро одергивал нетерпеливого визиря:
— Трава, которая растет слишком быстро, никнет от собственной тяжести.
Если беспорядок воцарился даже в диване, то могла ли быть речь о порядке в державе? Восточные провинции, где зверолютый Ферхад-паша, уничтожая бунтовщиков, вырубил даже грудных младенцев, восставали беспрерывно, тянулись к кызылбашам. Из Египта пришлось вернуть в Стамбул Мустафа-пашу, за которого назойливо хлопотала Сулейманова сестра Хафиза, и теперь там снова возродилась мамелюкская угроза. Великий визирь Пири Мехмед все чаяния возлагал на закон, а нужна была еще и сила. Государственную печать должна держать рука, которая так же умело держит и меч. Но где она, та рука? Пири Мехмед, взяв себе тахаллус[67] Ремзи, то есть Загадочный, сочинял мистические стихи, находя в них убежище для своей усталой души. На диване рядом с молодым султаном и полными сил сорокалетними визирями он выглядел изнеможенным, равнодушным, старым. Сулейман всякий раз становился свидетелем ожесточенных столкновений между Ахмед-пашой и великим визирем. Два султанских зятя — Мустафа-паша и Ферхад-паша — выжидали, чем все это кончится, хотя каждый из них готов был, улучив момент, прыгнуть и вырвать державную печать из старческих рук Пири Мехмеда. Сорок лет — рубеж для мужчины. Если ничего не достиг, уже и не достигнешь, ибо добывается все в жизни саблей, а саблю рука держит, лишь пока крепка.
— Кто сравнивает гнилое высокое дерево с деревом, укрытым густыми ветвями? — восклицал Ахмед-паша, запихивая себе за широченную спину чуть не с десяток парчовых султанских подушек. — Если у человека меч уже не может быть мокрым от крови, ни даже от пота, то как может такой человек держать в руке державную печать?
— Я повод, коего слушаются верблюд и всадник, — спокойно отвечал великий визирь. — А кто ты?
— А я тот, кто разрубает поводья и лишает тебя сна.
— Где ты оставил свиней своей матери? — намекая на христианское происхождение этого эджнеми-чужака, язвительно спрашивал Пири Мехмед.
— Они пасутся с ослами твоей матери, и когда мы пойдем на пастбище, то увидим тебя среди них.
Ибрагим, сопровождавший султана повсюду, на диване не вмешивался в распри, был сдержан и внимателен со всеми, сидел тихо, только слушал, учтиво улыбался, изо всех сил выказывая незаинтересованность. А сам тревожился больше и больше, чувствуя, что вскоре должно произойти нечто важное, но где и что, не знал даже он, поскольку Сулейман не делился своими намерениями ни с кем. Может, с Хуррем? Но она оттолкнула Ибрагима грубо и безжалостно. С валиде? Слухи противоречили и этому предположению. После Родоса Сулейман сделал для валиде единственную уступку — вернул в Стамбул Чобана Мустафа-пашу. Но все равно следовало заручиться поддержкой султановой матери, ибо только она знала тайну Хуррем и так же, как и молодая султанша, держала судьбу любимца султана в своих руках.
Ибрагим попросился через кизляр-агу на разговор к валиде, и султанская мать приняла его уже на следующий день, но когда он начал было о том, как подарил когда-то для Баб-ус-сааде рабыню-украинку, глянула на него внимательно, шевельнула темными устами почти презрительно:
— Я не помню этого.
Ибрагиму изменила его выдержка, он почти закричал:
— Ваше величество! Как вы могли забыть? Я предложил вам. Посоветовался с вами. И вы…
— Не помню этого, — холодно повторила валиде, закрывая лицо белым яшмаком и как бы отгораживаясь от грека.